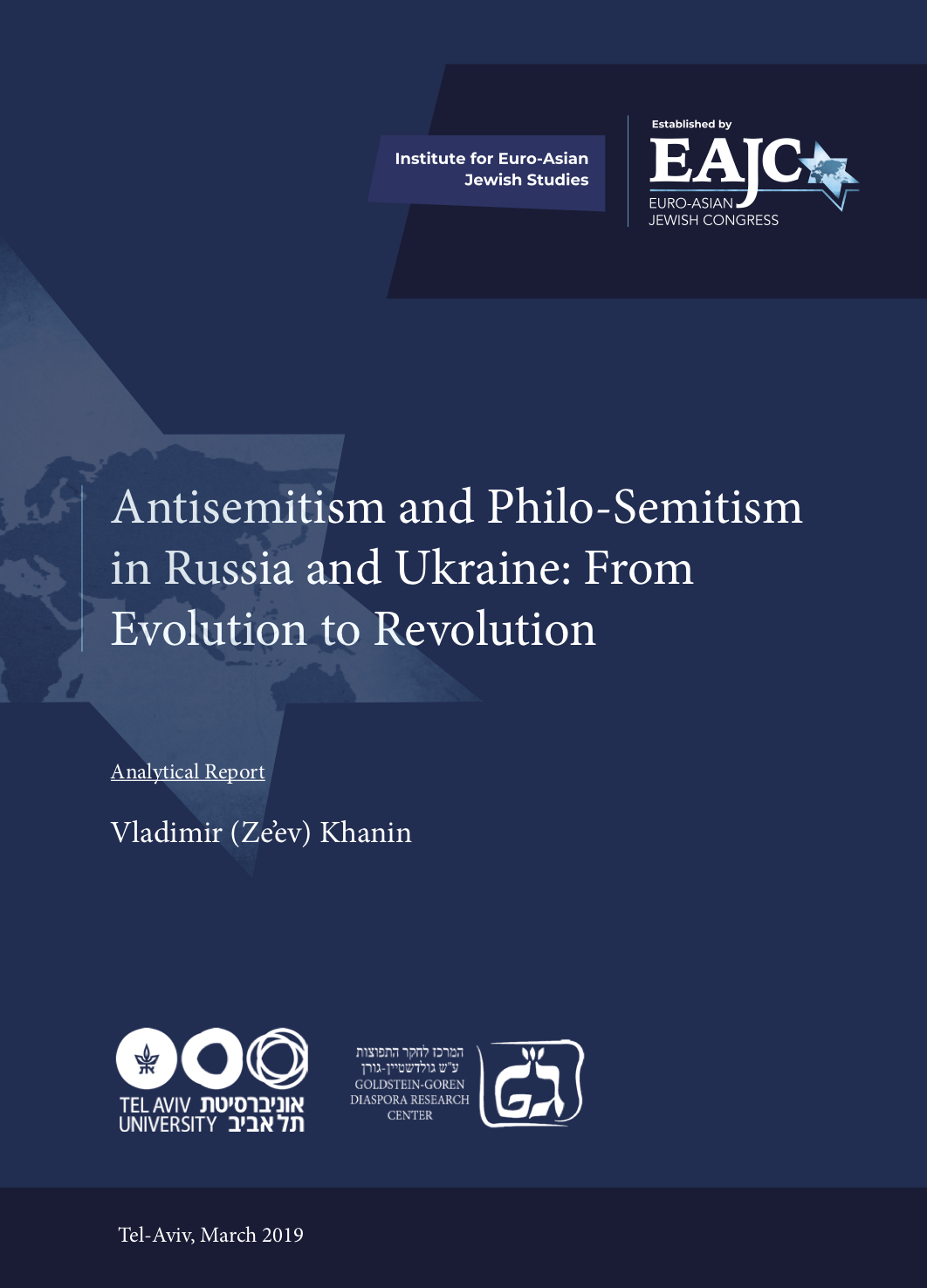Источник: Институт Ближнего Востока (Москва), http://www.iimes.ru/?p=56314#more-56314
Фразеология и весь антураж, сопровождавшие 15 мая с. г. мероприятия очередной годовщины т. н. «Накбы» – «Катастрофы», под каковой арабы подразумевают сам факт создания Государства Израиль, лишившего, по их мнению, палестинских арабов возможности собственного национального самоопределения – как и в прошлом, проигнорировали обсуждение самого корня проблемы. А именно, сам факт отказа арабской стороной плана ООН о разделе британского подмандатной территории на еврейское и арабское государство, который в отличие от арабов, был принят лидерами ишува (организованного еврейского поселения в Западной Палестине/Эрец-Исраэль). А также тот факт, что ни Египет, ни Иордания, ни сами палестинские арабские лидеры за весь период (с 1948 до июня 1967 г.) нахождения под контролем этих стран большей части территорий, на которых ООН предполагала создать палестинское государство, даже не обсуждали всерьез эту идею.
Конфликт нарративов
Стандартным набором действий этих «мемориальных» дней являются забастовки, демонстрации, и прочие, нередко насильственные акты, в которых в прошлом принимали участие многие десятки, а иногда и сотни тысяч арабов, как имеющих израильские удостоверения личности, так и жителей арабских анклавов за пределами «Зеленой черты», формально управляемых Палестинской национальной администрацией (ПНА). Но в последнее время масштабность мероприятий «Накбы» заметно снизилась. Даже ожидавшегося на этот раз в связи с первой годовщиной переноса посольства США в Иерусалим всплеска протестных действий, так, по сути, и не случилось. В выпуски новостей попали только несколько тысяч арабов Газы, рутинно митингующих у разделительного забора сектора. (Чем, в целом, «марш миллиона», обещанный контролирующей этот анклав радикально-исламистской группировкой ХАМАС, в целом, и ограничился). В то время как серьезных беспорядков с участием израильских арабов и арабов Иудеи и Самарии, так и не произошло.
Объяснение, судя по всему, следует искать в разочаровании палестинских арабов в перспективности прежних, насильственных методов борьбы, падения авторитета большинства элит, связанных как с группировками «светских националистов» ООП, так и, хотя пока и в меньшей степени, фракциями радикальных исламистов. Равно как и глубоком расколе между этими группировками и палестинского арабского общества в целом. А также с инфляцией самой идеи палестинского государства, включая падение интереса к этой теме лидеров многих влиятельных арабских стран.
Не случайно, что «красно-зеленый» альянс левацких и исламистских кругов и прочие политические, пропагандистские, дипломатические и финансовые спонсоры проектов, связанных с «Накбой», в последние годы в основном стараются перевести основной фокус этих мероприятий на поле «прав человека». Бесконечно тиражируя сомнительные, с точки зрения фактов, но, тем не менее, во многом устоявшиеся в мировом общественном мнении истории о, якобы, имевшем место в ходе арабо-израильских конфликтов «целенаправленном изгнании» ЦАХАЛом арабов с их, якобы, исторических земель. Соответственно, представляя этих арабов (на практике, в массе своей, сравнительно недавних иммигрантов в Западную Палестину из арабских стран) единственными жертвами, и уж точно, ни в коей мере не виновниками той ситуации.
Смысл продвижения этого нарратива достаточно понятен. С момента разгромного для арабов завершения первой арабо-израильской войны 1948-1949 гг. эта тема поддерживается «красно-зеленым» альянсом в качестве инструмента продолжения борьбы с Израилем в трех плоскостях. Во-первых, как оправдание военного противостояния с Израилем и источник постоянной напряженности и притока кадров для террористической деятельности против него, во-вторых, делигитимации и дегуманизации еврейского государства как стороны, якобы, ответственной за возникновение проблемы беженцев и отсутствие прогресса в ее решении. И, в-третьих, как дипломатический и демографический ресурс, способный в случае, если международное давление вынудить Израиль принять принцип «права на возвращение» этих арабских мигрантов внутрь «Зеленой черты», взорвать еврейское государство изнутри. То есть, добиться того, в чем противники Израиля не преуспели на поле конвенциональной или террористической войны.
Израильская дипломатия традиционно противопоставляла такому подходу три аргумента, в основном фиксируя внимание на двух их них. Во-первых, подчеркивая, что корень проблемы является упомянутый отказ арабских стран принять резолюцию ООН о разделе Палестины на еврейское и арабское государства. А также развязанная ими волна террора против еврейских поселений и еврейских кварталов городов со смешанным населением, а затем – вторжение армий пяти арабских стран в новорожденное еврейское государство. О целях этих действий свидетельствуют неоднократно цитированные в литературе высказывания лидеров Лиги арабских стран (ЛАГ) и Высшего арабского совета (ВОС) подмандатной Палестины. Как, например, и. о. главы ВОС Джамаля аль-Хуссейни, который в ноябре 1947 г. откровенно заявлял, что «Палестина будет добыта огнем и кровью, если евреи получат хоть какую-то ее часть». Или главнокомандующего поддержанных и финансируемых ЛАГ арабских «сил вторжения» в Палестину Фавзи Каукаджи, угрожавшего, что ответом арабов на решение ООН станет «тотальная война… [с евреями] после которой не останется ничего, кроме трупов, и разрушений». А также генсека ЛАГ Азам-Паши, который накануне вступления арабских армий в Палестину в 1948 прямо заявлял, что речь идет о «войне на полное и моментальное истребление [евреев] в Палестине, о которой будут вспоминать, как о резне, устроенной монголами или крестоносцами».
Причем, согласно популярному мнению, подтверждаемому и рядом источников (например, транскриптом информации, переданной в эфир 3 апреля 1949 года расположенной на Кипре арабской службы Британской радиовещательной корпорации и иными данными) Высший арабский комитет и командование арабских армий сами призывали арабских жителей, как предполагалось, «временно», покинуть свои дома. С тем, чтобы не мешать «силам вторжения» действовать в стиле «выжженной земли».
Вторым обычным израильским аргументом является акцентирование того факта, что проблема «палестинских беженцев», в нынешнем ее виде, не только создана искусственно – законсервирована вопреки изначальному плану ООН интегрировать добровольных и вынужденных арабских мигрантов бывшего британского мандата в Палестине в странах их физического пребывания. (То есть так же, как поступили со 100 млн. беженцами и перемещёнными лицами после Второй мировой войны). Но она и непомерно раздута. Как в демографическом плане – с уже тогда неправдоподобных 750-800 тыс. «беженцев» в 1949 году до абсурдных 5-5,5 млн. сегодня. (Первое число стало следствием политики международных агентств почти автоматически заносить в список «палестинских беженцев» всех арабов, кто объявлял себя в качестве таковых; второе — превращение этой группы в единственную категорию беженцев в мире, чей временный статус является постоянным и передается по наследству всем поколениям). Так и является сюжетом, раздутым дипломатически – до не укладывающегося в разумную логику статуса коренного вопроса арабо-израильского конфликта и ядра проблем Ближнего Востока.
Еврейские беженцы
В этот подход вполне укладывается и третий аргумент израильской стороны, которая не считает себя обязанной решать проблему палестинских беженцев, в кавычках или без, хотя бы, потому что он свою часть проблемы решил. В 1948-1951 годах Израиль принял более 700-800 тыс. евреев-выходцев из арабо-исламских стран, многие из которых (особенно евреи – бывшие жители Ирака и стран Магриба) вынуждены были оставить свои страны, бросив имущество, перед лицом нарастающей в этих странах волны антисемитизма.
Как заметила британский еврейский журналист и один из организаторов Ассоциации евреев-выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Великобритании «Хариф», Лин Джулиус, сегодня в арабских странах проживают не более 4000 евреев. Это все, что осталось из многих сотен тысяч, которые в середине прошлого века еще проживали на территории современных арабских и иных мусульманских стран, где они оказались после падения Иудейского царства 2500 лет назад, то есть, примерно 1300 лет до прихода туда самих арабов. И еврейский исход с этих земель 40-е – 50-х гг. прошлого века, который стал крупнейшим потоком немусульман в регионе Ближнего Востока до массового изгнания иракских христиан во время «арабской весны», заметно превосходил число лиц, которые хоть как-то могли претендовать на статус мигрантов из бывшей британской Палестины.
 Руины центральной синагоги в Халебе (Алеппо) в Сирии после еврейского погрома в городе в 1947 году. Photo credit: https://en.wikipedia.org/wiki/1947_anti-Jewish_riots_in_Aleppo
Руины центральной синагоги в Халебе (Алеппо) в Сирии после еврейского погрома в городе в 1947 году. Photo credit: https://en.wikipedia.org/wiki/1947_anti-Jewish_riots_in_Aleppo
Таким образом, в известном смысле между Израилем и арабскими странами произошел своего рода «обмен населением», что было широко распространённым в первой половине ХХ века способом разрешения этнополитических и этно-религиозных противоречий. (Другие примеры такого же рода – обмен населением между Грецией и Турцией после Первой мировой войны, и Индией и Пакистаном в 40-50-е гг. ХХ века). Причем, в отличие от палестинских арабов в большинстве арабских стран, в Израиле евреям-выходцам из арабских стран было предоставлено полное гражданство – равно как и арабам, оказавшимся на его территории после окончании Войны за независимость (и уже на выборах в 1-ый Кнессет в 1949 г. участвовали арабские партии). Потому, хотя Израиль, как современное либеральное и цивилизованное государство, совместно со всеми арабскими странами готов взять на себя определенную гуманитарную роль в устройстве потомков «палестинских беженцев» там, где они проживают, или же в переселении их в те страны, которые пожелают их принять, с его точки зрения проблема беженцев закрыта.
Заметим, однако, что в отличие от двух первых аргументов – что Израиль не является ответственным за проблему, которая возникла из-за агрессии арабов, стремившихся уничтожить еврейское государство, и не несет ответственности за то, что эта проблема законсервирована – этот третий аргумент долгие годы в Израиле звучал минорно. Ибо согласие рассматривать евреев, прибывающих в Израиль в качестве беженцев, противоречило бы базовой доктрине еврейского национального движения – сионизма, в основе которой лежит идея собирания рассеянных по миру еврейских диаспор на исторической родине еврейского народа Палестине/Эрец-Исраэль (Земле Израиля), где только и возможно его полноценное государственно-политическое самоопределение. И этим же идеологическим императивом официально руководствуется и Государство Израиль, рассматривающее перебирающихся в страну евреев и членов их семей, какими бы мотивами ни был мотивирован этот шаг, в качестве репатриантов, а не иммигрантов или беженцев. (Что и закрепляет израильский Закон о возвращении, предоставляющий лицам, подпадающим под его критерии, полноценное израильское гражданство в момент прибытия ими в страну на постоянное место жительство).
Так что, определенная доля «вины» за тот факт, что в отличие от тщательно культивируемого сюжета «палестинских беженцев», восточные евреи, создавшие свои общины на этих землях за тысячу лет до того, как они были завоеваны арабами, просто вычеркнуты из современной истории этого региона, лежит и на прежних поколениях израильских лидеров. (Это мнение стало особенно популярно среди израильских политиков и интеллектуалов из числа уроженцев или потомков выходцев из стран Азии и Африки). Впрочем, сегодня ситуация меняется. Причиной стало укрепление в коллективной идентичности израильтян идей множественности еврейских культур и «нового сионизма», готового отказаться от прежней концепции «отрицания диаспоры» в пользу представления о сосуществовании Израиля и диаспоры в качестве взаимодополняющих и взаимно актуальных элементов современного еврейского бытия.
Соответственно, в общенациональном израильском дискурсе утверждается нарратив, что судьба ставших жертвами этнических чисток евреев арабских стран, в массе своей перебравшихся (причем, в основном, с пустыми руками) в Израиль, является единицей коллективной памяти и общего исторического опыта всех израильтян. И потому нанесенный им моральный ущерб, их коллективные и личные права, а также брошенное, конфискованное или проданное за бесценок имущество – дома, земли, бизнесы, банковские вклады и т. п. – должны быть частью любого варианта урегулирования проблемы палестинских арабов.
Понятно, что до тех пор, пока практически единственной моделью урегулирования конфликта, на которую в той или иной форме были согласны лидеры стран-членов ЛАГ, считалась «концепция Осло» – то есть прямое мирное соглашение Израиля и ПНА/ООП по модели «два государства для двух народов» – данная идея носила сугубо декларативной характер. И тот факт, что реальная стоимость конфискованного у евреев имущества, учитывая широкое представительство этой группы в деловых, торгово-промышленных, интеллектуальных и управленческих кругах арабских стран, может в десятки раз превышать стоимость имущества, на которое могут теоретически претендовать «палестинские беженцы», была не единственной причиной.
Важнее, было то, что на подобную схему были ни при каких условиях не согласны сами палестинские арабские лидеры, для которых принятие концепции «обмена населением» означает закрытие темы «палестинских беженцев», подрывающее ключевое звено «палестинской идентичности», а с ним их претензии на власть и ресурсы. Упомянутая Лин Джулиус передает в своей статье характерную реакцию «ветерана» арафатовского поколения лидеров ООП Ханан Ашрауи (HananAshrawi) и посла этой организации в ООН Рияда Мансура (RiyadMansour), на поднятую в их диалоге тему, что проблема беженцев должна учитывать и евреев, бежавших в Израиль от преследований в арабских странах.
Ашрауи, по словам автора той статьи, энергично протестовала против самой постановки такого вопроса, воскликнув, что эти евреи «не могут быть беженцами на своей родине». Не заметив в пылу дискуссии, или пожертвовав, ради более актуального тезиса другим ключевым пунктом идеологии радикального палестинского арабского национализма, отрицающего генетическую и историческую связь современных евреев с Палестиной/Землей Израиля, и соответственно, их право на национальное самоопределение в этой стране. (Одновременно, предпочтя не комментировать вопрос, что если это так, то на каком основании вожди ООП препятствуют расформированию «лагерей беженцев» и сохранении статуса беженцев их обитателей на территории, контролируемой ПНА и объявленной ею «Палестинским государством»).
Тем более неактуальным выглядел этот сюжет в случае замораживания этого конфликта на неопределенно долгий срок. Что до недавних пор виделось единственной альтернативой «концепции Осло» представителям большей части израильского политического спектра (от центра и правее), в последнее более десятилетие определяющих состав правящей коалиции. Особенно, в свете ранее имевшей место почти автоматической готовности руководства «умеренных» арабских стран подписаться под самыми радикальными «предварительными условиями» Рамаллы, априори обессмысливающих переговорный процесс.
Но сегодня на повестке дня стоит уже договоренность не столько с самими палестинцами, сколько «по их поводу», как часть регионального соглашения Израиля с проамериканскими арабскими режимами, заинтересованными в партнерстве с Иерусалимом в свете общих вызовов и угроз, а также закрытии становящегося для них все более контрпродуктивным «палестинского файла». В этих условиях концепция арабо-израильского «взаимозачета» приобретает определенный смысл – особенно если она станет элементом продвигаемой Вашингтоном т. н. «сделки века». Тем более, если предположить, что затребованная американской стороной сумма участия арабских стран в экономической части урегулирования палестино-арабской проблемы – от 60 до 100 млрд долларов – была озвучена с учетом оценочной стоимости присвоенного этими странами еврейского имущества. Пока не известно, насколько данная гипотеза близка к истине, но очевидно, что идея реституции еврейской собственности, будет воспринята в арабском мире, как минимум, с ничуть не большим энтузиазмом, чем это сегодня происходит в странах Восточной и Центральной Европы. (Последним по времени примером реакций такого рода является Польша). И это притом, что европейское, в том числе восточноевропейское общество относится к Израилю не в пример позитивнее, чем воспитанное поколениями в антиизраильском духе население арабских стран.
С другой стороны, теоретически можно себе представить, что тема признания арабскими странами ответственности за исход евреев и присвоение их собственности, которая сильно усложняет их находящимся в капкане своей многолетней пропалестинской риторики лидерам задачу «продавить», на уровне местного общественного мнения, идею сближения с Израилем, парадоксально может стать и решением данной проблемы. Если дело будет представлено таким образом, что Израиль готов «поучаствовать в расходах», то есть, снять требование о передачи стоимости оставленного евреями имущества в обмен на экономическое устройство палестинских арабов и снятие «палестинской проблемы» с региональной и мировой повестки дня.
Новая идея для еврейской диаспоры?
Разумеется, здесь имеется и моральная проблема, причем уже на еврейском поле. Собственность огромной массы погибших в Катастрофе европейских евреев невозможно вернуть наследникам за неимением таковых, и эти финансовые или материальные ресурсы, в случае реституции передаются на нужды местных еврейских общин или Израиля, для распределения среди переживших Холокост и пострадавших от нацизма. В отличие от них, на конфискованную в арабо-мусульманских странах еврейскую собственность имеются или могут быть вполне конкретные претенденты – чьи права на нее могут быть документально намного более обоснованы, чем большинство аналогичных заявок арабов, на, якобы, принадлежавшие им дома в Хайфе или Цфате.
Но ситуация может выглядеть иначе, если речь пойдет на намного более общем проекте – завершении почти столетнего конфликта между еврейским и арабским миром, если не в культурно-цивилизационном (что вряд ли возможно), то по крайней мере, в политическом контексте. Возможно, с учётом опыта договоренностей тогдашних лидеров сионистского и арабского движений по завершению Первой мировой войны. Реалистичность такого сценария, несмотря на зондаж, который проводят представители Всемирного еврейского конгресса и король Бахрейна (в явной координации, соответственно, с правительством Израиля и саудовскими королевским домом), и сегодня находится под вопросом. Однако не исключено, что ситуация в регионе будет двигать озабоченные своим выживанием умеренные арабские режимы проамериканского блока к поиску креативного разрешения проблем, препятствующих их сближению с Израилем. В том числе, и в непривычном для них вопросе еврейских беженцев.
В таком аспекте, дело не выглядит совершенно невозможным. Похоже, что многие вынужденные еврейские эмигранты из арабских стран, по мнению ряда наблюдателей, могут быть солидарны с мнением живущей ныне в Монреале египетской еврейке, героине статьи обозревателя CanadianJewishNewsДженис Арнольд. И, как и эта еврейка, «не ждут компенсации за утерянное там имущество, но рассчитывают на извинения и признание вины за причиненные им страдания». А уже в рамках этих пониманий, Израиль и еврейский мир, судя по всему, сможет найти способ учесть и материальные претензии конкретных еврейских семей.
Дополнительным – и, судя по комментариям в СМИ, вполне веским аргументом для общин восточных евреев в Израиле и диаспоре принять такую схему, может стать и еще одно обстоятельство. Еврейский мир сегодня находится в поисках объединяющего пункта, некоего консенсуса, который сможет поднять его над разногласиями по вопросам арабо-израильского конфликта, соотношения либеральных и консервативных ценностей, конкуренцией различных деноминаций иудаизма, оценками различных формам расового и политического антисемитизма, и иными противоречиями.
Еще три-четыре девятилетия тому назад, таким консенсусом в еврейском мире была против дискриминации советских евреев и за их право на эмиграцию в Израиль и страны Запада. Не исключено, что моральные и материальные права евреев арабских стран могут стать таким объединяющим еврейский мир фактором на нынешнем этапе.

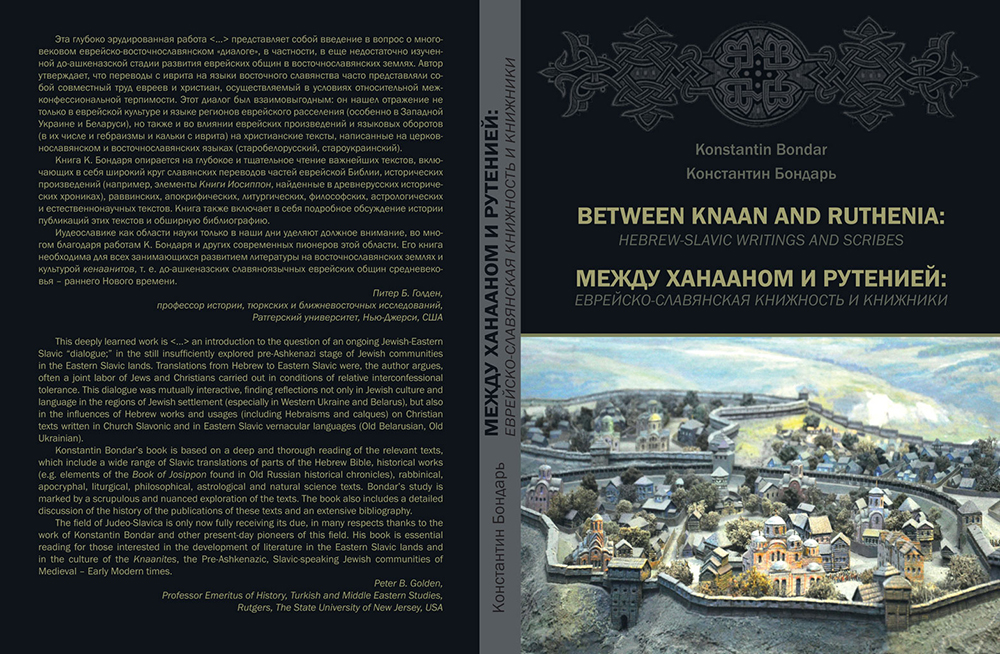







 Руины центральной синагоги в Халебе (Алеппо) в Сирии после еврейского погрома в городе в 1947 году. Photo credit:
Руины центральной синагоги в Халебе (Алеппо) в Сирии после еврейского погрома в городе в 1947 году. Photo credit: