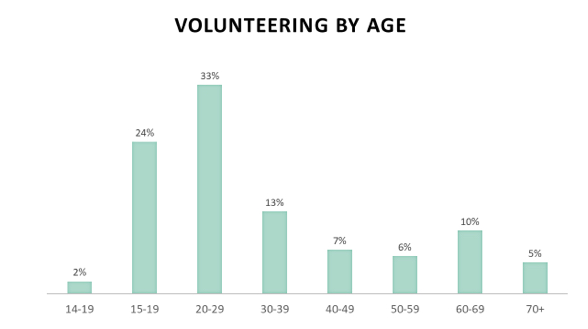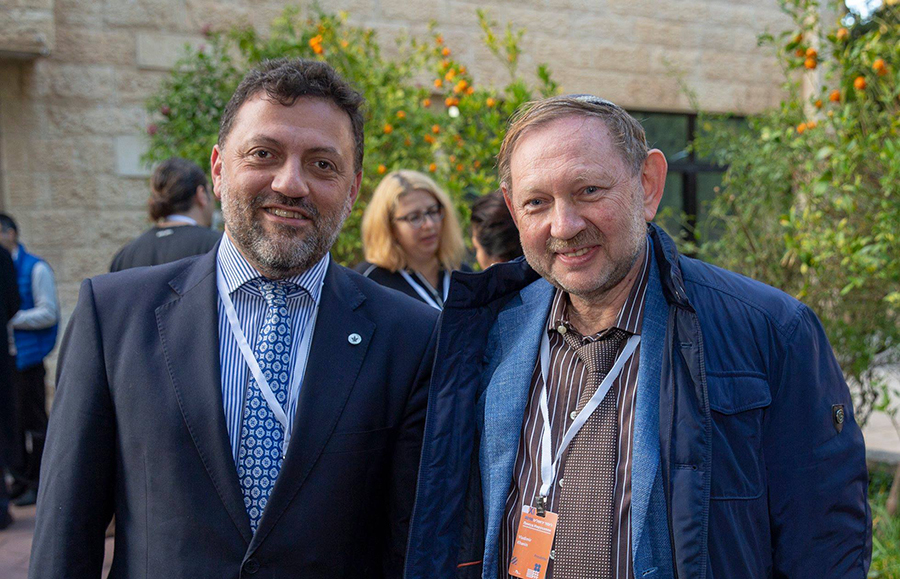Традиционный язык ашкеназского еврейства – идиш ‑ почти исчез в качестве средства живого общения на просторах Восточной Европы и постсоветских стран в связи с культурной ассимиляцией в советское время и массовой эмиграцией его последних носителей в 90-е гг. прошлого века. Но он был одним из важнейших символов еврейского возрождения в 1988-1992 годах, то есть накануне распада СССР и в ранний постсоветский период. Именно вокруг идеи восстановления и развития идишской культуры строилась деятельность возникших в те годы Обществ еврейской культуры, первое из которых в Украине (оно же ‑ второе по счету в СССР) было основано во Львове. Однако в последующие годы этот фактор ушел на периферию идентичности местного еврейства. После перерыва в четверть века интерес к данной теме вновь возрождается, но уже как к академической дисциплине, причем в основном усилиями нееврейских интеллектуалов и деятелей местной культуры. Сам по себе этот процесс можно только приветствовать, однако одновременно еврейским общественным лидерам имеет смысл задаться вопросом, что стоит за этот тенденцией. Общая либерализация гуманитарного знания, попытка ответственно взглянуть на историю своих народов в свете судеб их еврейских соседей или характерная для ряда стран Восточной Европы попытка превращения еврейской культуры в приватизированную местным нееврейским обществом «единицу памяти»?
Возрожение культуры на языке идиш во Львове (на идише, как и по-немецки, его называли Лемберг), который был столицей входившего в 1772-1918 гг. в состав Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи Королевства Галиции и Лодомерии, началось в конце 1980-х годов в Обществе еврейской культуры им. Шолом-Алейхема. Это первое в Украине объединение такого рода было основано в 1988 году, в самом начале возрождения еврейской культуры в Украине по инициативе писателя Александра Лизена, инженера и журналиста Бориса Дорфмана, а также других активистов.
Как и в других местах, во Львове именно идиш, в качестве доминирующего элемента исчезающей традиционной культуры восточно-европейского еврейства, воспринимался в как один из важнейших символов еврейской идентичности местной общины, и именно поэтому его преподавание стало одной из целей общества. Следует отметить, что тогда преподаванием идиша занимались естественные носители этого языка. К еврейской общине присоединились и заинтересованные украинские ученые и писатели, в частности, поэт Иван Лучук и востоковед Ярема Полотнюк. Однако, как и в других местах бывшего СССР, вскоре и общество им. Шолом-Алейхема и другие еврейские учреждения Львова сосредоточились на преподавании иврита. Проблема состояла не только в падении интереса в связи с массовой эмиграцией носителей этого языка, но и в том, что во Львове не хватало профессиональных преподавателей.
Изучение идиша во Львове в академических учреждениях началось вместе с ростом интереса к еврейской истории в целом, и интерес к нему возник, прежде всего, благодаря школам по еврейской истории в контексте многоэтничного прошлого, которые проводились Центром городской истории с 2010 по 2016 год. Эти школы включали в себя начальный курс идиша, который преподавали Йоанна Лисек (Вроцлав), Войцех Творек (Вроцлав), Валентина Федченко (Санкт-Петербург) и Арно Бикар (Париж). За шесть лет летних школ в них приняли участие сто двадцать участников, по большей части из Украины, однако также из Беларуси, России и Польши, которые получали базовые знания по идишу, что вдохновило многих из них продолжать изучение языка в летних школах и в других университетах. Трое участников летних школ – историки Владислава Москалец, Евгений Поляков и Оксана Сикорская в 2012-2014 годах организовали идиш-клуб, в котором они вместе читали литературу на этом языке.
Идея преподавания идиша и иврита как постоянных курсов появилась одновременно с мыслью о необходимости основания программы Еврейских студий в Украинском Католическом Университете. Целью программы была подготовка специалистов, которые могли бы заниматься еврейской историей украинских земель. Что отличало бы такого историка от выпускника специализации по истории Украины или Центрально-Восточной Европы? Кроме набора специальных исторических курсов это должны были быть языки иврит и идиш, на которых в Украине (в отличие от других языков региона – польского, латыни, немецкого) мало кто читает и которые почти никто не преподает. Именно поэтому, с 2015 года в УКУ начали преподавать идиш и иврит. Однако оставалась проблема с поиском постоянных преподавателей, ведь в летних школах идиш преподавали гостевые профессора. Первым преподавателем идиша стала Ася Фруман, преподавательница из Харькова, которая переехала во Львов.
Ася Фруман преподавала на протяжении 6 семестров и заложила фундамент идиш-студий в УКУ. Она рассказывала про язык ашкеназских евреев людям, которые мало слышали о нем раньше. В феврале 2018 года ее заменила выпускница УКУ Оксана Сикорская, которая преподает до сих пор. Ранее Оксана Сикорская преподавала идиш в организации «Хесед-Арье».
Сегодня в УКУ есть три группы по изучению идиша: начального, среднего и высокого уровней. Есть студенты, которые уже 5-ый семестр изучают идиш в университете, некоторые из них побывали на краткосрочных интенсивных программах, в частности The Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program (Тель-Авив) и International Summer Seminar in Yiddish Language and Culture (Варшава). У этих студентов большой интерес к идишу. Большинство из них ‑ не евреи, а украинцы, которые понимают важность идишского элемента в украинской истории и культуре. Наши ученики – это люди с очень сильной мотивацией, ведь на сегодняшний день идиш – непрактичный язык, его можно использовать только для исследований и научной работы. Однако многие пришли на курс из-за того, что у них есть искренний интерес к этой культуре, к еврейской литературе на идише. Все они очень интересные люди. Прежде всего, это историки (с кафедры еврейских студий, которые занимаются с еврейскими темами в своих работах), искусствоведы, которые изучают еврейское искусство Галиции, литературоведы и филологи, которые ходят делать переводы и с идиша. А кроме того, это любители идиша, которые учатся с большим энтузиазмом и черпают здесь вдохновение.
Надежда Скокова, аспирантка кафедры еврейских студий, так отзывается о своих занятиях идишем в УКУ: «Для меня знакомство с идишем стало началом изучения параллельной культуры, которая когда-то была равноценной и живой на украинских землях. Это динамичный, разнообразный и очень колоритный язык. Изучение идиша показывает, что, как бы далеки на первый взгляд ни были друг от друга еврейская и славянская культура, они гармонично и незаметно создавали симбиоз – в идише много славизмов, а славянские языки в какой-то момент своей истории усваивают еврейские слова. Наверное, потому-то еврейские сказки на идише одновременно близкие и незнакомые. Часто символизм в еврейском фольклоре имеет очень много общего со славянским, а иногда он сохраняет свой далекий уникальный облик. Для меня уроки идиша – это не только изучение языка европейских евреев, это и пространство, в котором пересеклись параллельные культуры, которые когда-то существовали вместе».
Мы рады, что сегодня во Львове есть возможность для всех желающих изучать идиш в университете, и мы видим большую перспективу для еврейских студий в Украине. Мы убеждены, что в скором времени наши студенты начнут заниматься переводами и подключатся к проектам, в которых они смогут использовать приобретенные ими во время изучения идиша знания и навыки.
Оксана Сикорская, Владислава Москалец
Послесловие редакторов
Эта заметка была написана молодыми львовскими исследовательницами для литературного альманаха «Идишланд», издающегося на идише в Тель-Авиве и ставящего среди прочего своей задачей информирование читателей о преподавании языка идиш и его литературы в различных странах и городах мира. Особый интерес в данном смысле представляют страны Восточной Европы, в частности Украина, которые были в исторически недавнем прошлом естественным ареалом бытования этого языка. Так Львов был одним из заметных центров еврейской литературы. Достаточно упомянуть о том, что именно в этом городе началась творческая деятельность классика еврейской поэзии (на идише и на иврите) ХХ века Ури-Цви Гринберга. В начале ХХ века во Львове жили около 60 тысяч евреев (по данным австрийской переписи населения 1910 года), составлявших свыше четверти всего городского населения.
Сейчас, после Холокоста и эмиграции большинства уцелевших евреев, этноязыковая ситуация во Львове принципиально иная. Согласно данным всеукраинской переписи населения 2001 года, в городе проживали всего 1900 евреев, составлявших лишь 0,3% местного населения. С учетом потомков смешанных браков и членов семей нееврейского происхождения, подпадающих под критерии израильского «Закона о возвращении» и потому в значительной части своей вовлеченных в деятельность еврейских организаций, общая численность «расширенной еврейской популяции» города сегодня оценивается в 6-8, а по другим оценкам ‑ 12-15 тыс. человек. Однако эти евреи в результате языковой ассимиляции идиша, как правило, не знают. Естественные носители языка, по большей части лишь пассивно понимающие идиш, но не способные на нем говорить, остались лишь среди лиц старшего поколения.
Действительно, возрождение идиша и традиционной идише-ориентированной культуры было знаменем Обществ Еврейской культуры (ОЕК), которые стали первой легальной формой еврейских гражданских объединений в Советском Союзе в новейший период. Создание значительного числа, если не большинства этих объединений было инициировано на пике Перестройки прагматиками из числа теряющего власть официального истеблишмента, пытавшимся не остаться в стороне от возрождающегося еврейского движения в стране. Потому многие ОЕК, вне связи с реальным замыслом властей и при поддержке либеральной фракции местных националистических и общедемократических движений, стали платформой для легализации деятельности остатков еврейского национально-демократического движения 70-х — начала 80-х годов, которые в условиях горбачевской либерализации и разворачивания массовой еврейской эмиграции из СССР вернулись к идее создания независимых еврейских организаций[1].
В свое время, в конце 80-х годов прошлого века один из нас (Велвл Чернин) присутствовал на первом торжественном заседании Общества еврейской культуры им. Шолом-Алейхема во Львове. Он был лично знаком с упомянутым в заметке Оксаны Сикорской и Владиславы Москалец первым председателем этого общества, писателем Александром Лизеном, писавшим на идише и по-украински. Тогда идиш еще звучал во Львове и, как сказано в заметке, тогда преподавателями языка идиш во Львове были его естественные носители, а учениками курсов, на которых преподавался этот язык, были по большей части евреи, для которых основным мотивом изучения этого языка было национальное самосознание.
Четверть века спустя оба редактора снова последовательно оказались во Львове, где в качестве израильских гостевых лекторов преподавали, соответственно, курс еврейской литературы и современного израильского общества в Украинском Католическом Университете, располагающем прекрасно организованной программой еврейских студий. К этому времени идиш уже практически полностью исчез из Львова. Даже в местной синагоге Велвл Чернин говорил по-русски. Единственный, с кем он общался в тот приезд во Львов на идише, был упомянутый в заметке журналист Борис Дорфман. При этом студенты, посещавшие наши занятия в УКУ, были исключительно украинцами.
Таким образом, в заметке Оксаны Сикорской и Владиславы Москалец отражен драматический момент угасания еврейской культурной деятельности на языке идиш, который был когда-то живым языком местной еврейской общины, и его последующей «посмертной реинкарнации» в качестве предмета академического изучения в местном нееврейском академическом учреждении, поставившем своей задачей изучение истории Украины во всем ее культурном и языковом многообразии. При этом как нынешние преподаватели языка идиш, так и изучающие его студенты, могут оказаться евреями, по сути, лишь случайно. Тот факт, что еврейку Асю Фруман заменила в УКУ в качестве преподавательницы идиша украинка Оксана Сикорская, не внес никаких принципиальных изменений в ситуацию.
Следует особо подчеркнуть, что речь идет не о специфически львовском явлении, а о части гораздо более широкого явления, развивающегося на наших глазах в целом ряде европейских стран, например, в Польше, и заслуживающем особого внимания. Если в 80-х годах прошлого века Александр Белоусов (1948-2004), этнический русский, ставший известным поэтом на идише, вызывал некоторое недоумение, то теперь неотъемлемой частью современной культуры на языке идиш стали не-евреи – специалисты по идишу, блестяще владеющие этим языком и даже создающие на нем достойные внимания литературные произведения. (Например, Марек Тушевицкий из Кракова или Томас Соксбергер из Вены – оба они изучили идиш в рамках своей академической подготовки). Нельзя исключить, казалось бы, парадоксальной возможности того, что новые авторы современной литературы на идише появятся и среди тех, кто учится сейчас на курсах этого языка в УКУ.
Все это можно только приветствовать, но одновременно, следует задаться вопросом, что стоит за подобной эволюцией отношения к языку и культуре идиш. Просто либерализация гуманитарного знания, имеющего небольшое отношение к собственно евреям как таковым? Интеллектуалы старых и новых демократий бывшего коммунистического лагеря, желают, изучая евреев, что-то понять и о себе, и, возможно, сделать, как говорят на иврите, «хэшбон нефеш» – ответственно взглянуть на историю своих народов в свете судеб их еврейских соседей? Или речь идет об идущем и во многих странах Восточной Европы процессе превращения еврейской культуры в приватизированную местным нееврейским обществом «единицу памяти»? У нас нет сомнения, что инициаторы программ академического изучения и общественного признания еврейской культуры в странах Восточной Европы и Евразии, включая, разумеется, и авторов приведенной выше заметки, действуют из самых благородных и толерантных побуждений.
Но очевидно, что вопрос о том, следует ли еврейским общинам Украины, Евразии и мира в целом самоустраниться от этого процесса, делегировав полномочия местным научным работникам, интеллектуалам а, затем, неизбежно, и политикам, остается совсем не праздным.
Велвл Чернин, Зеэв Ханин[2]