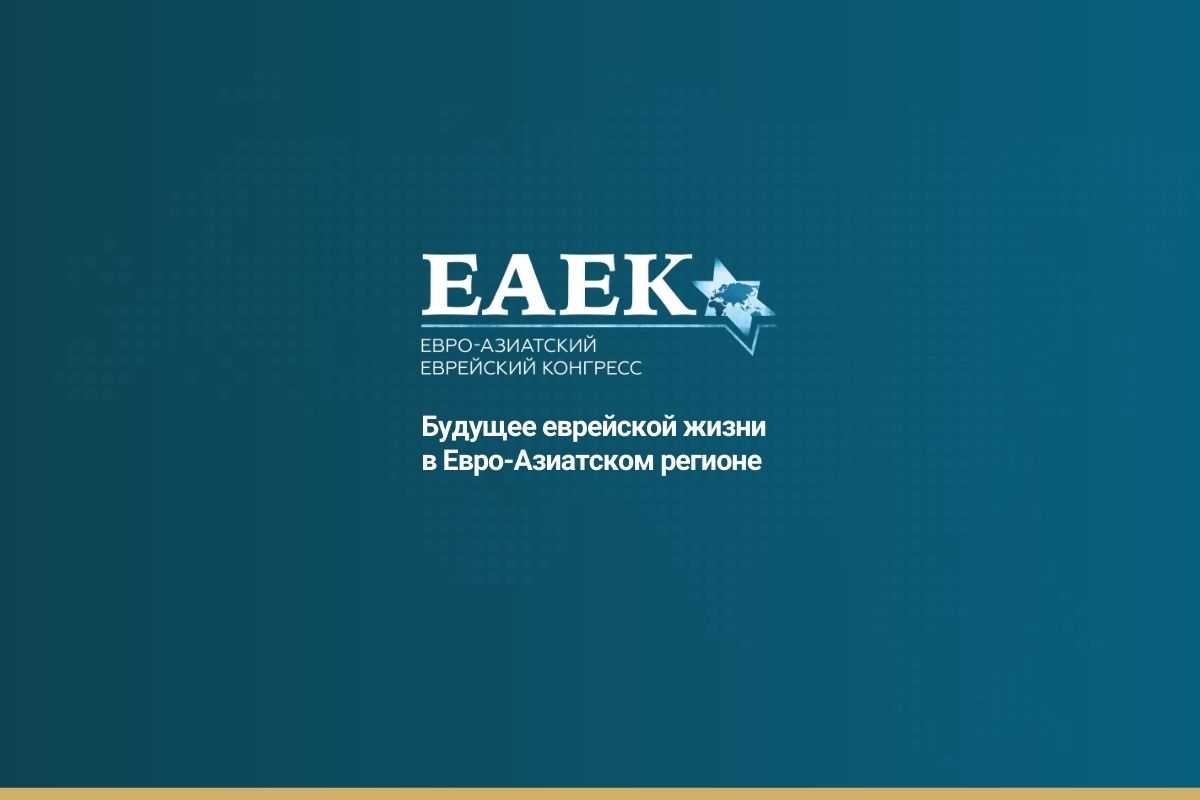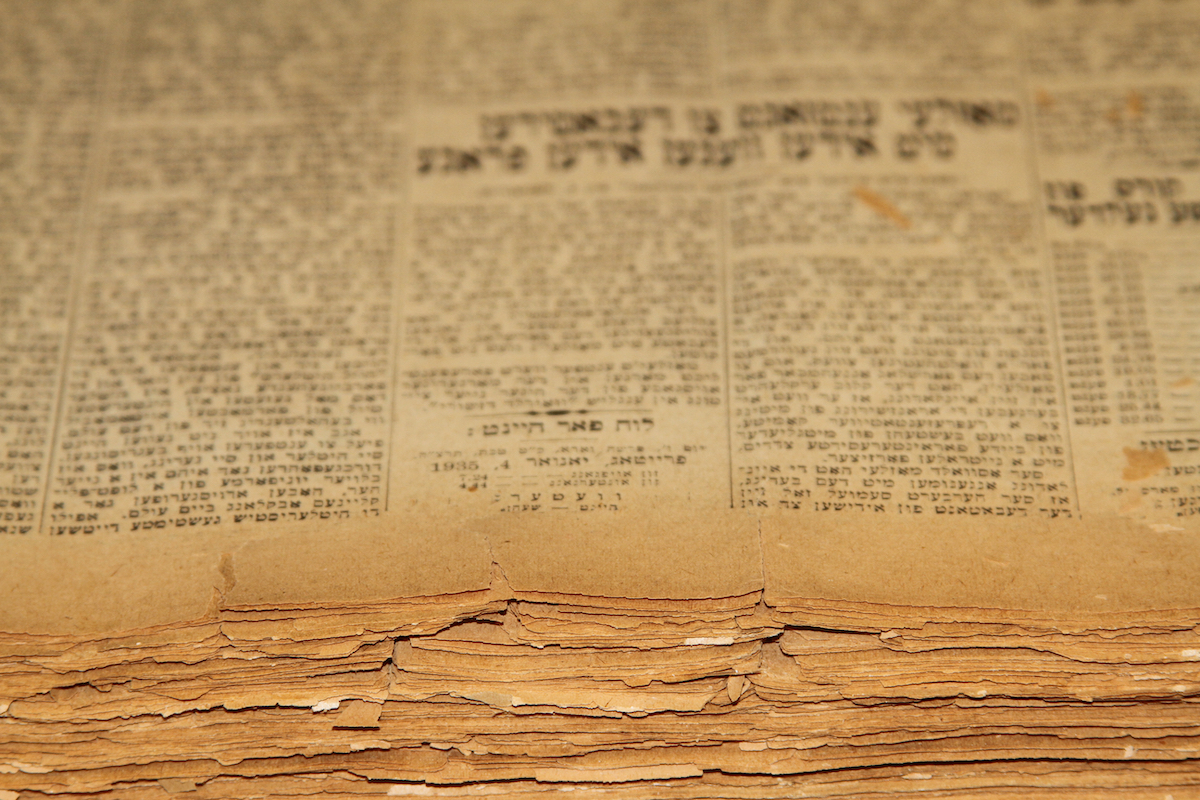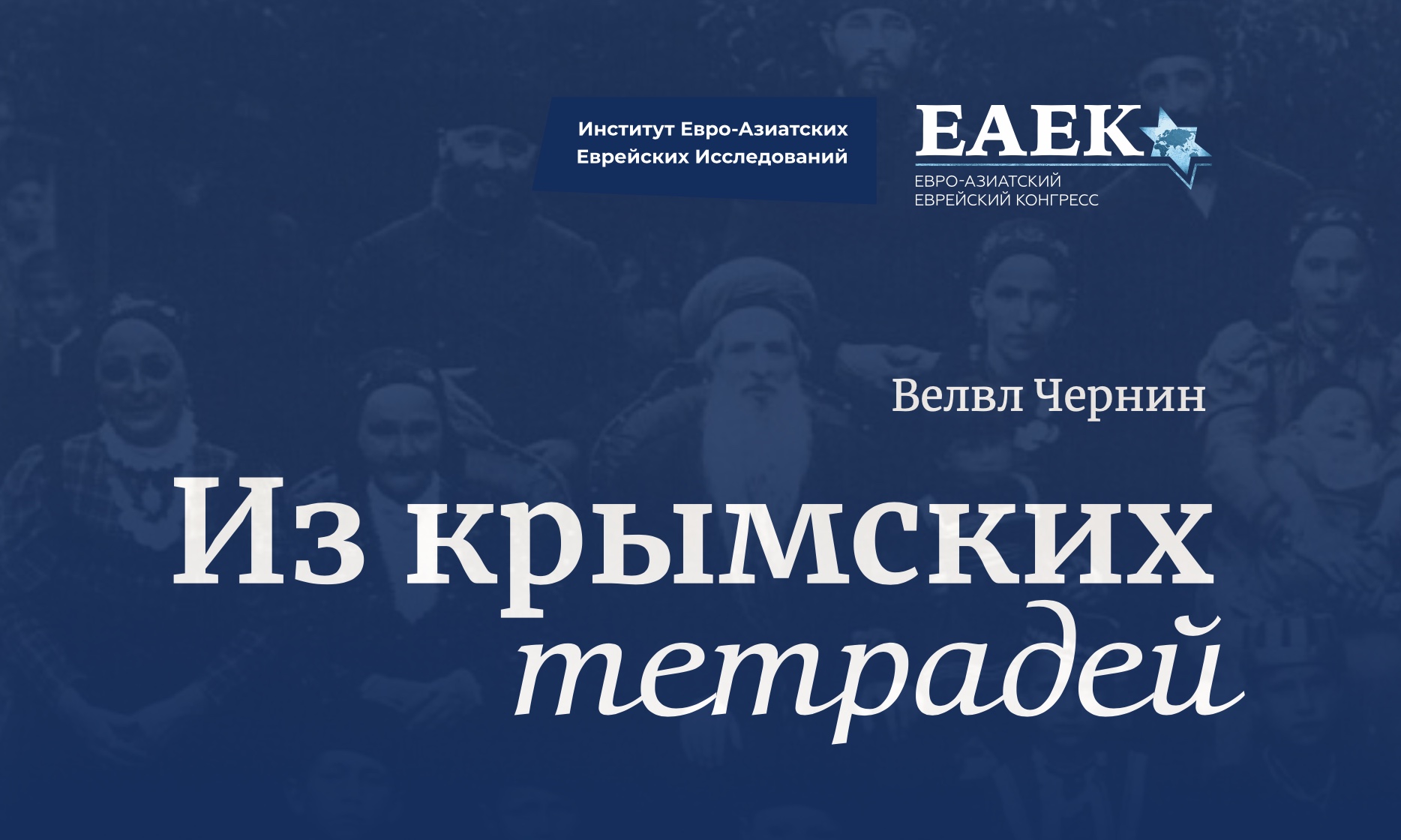Демографические аспекты
Описание современного состояния еврейской общины Беларуси уместно начать с оценки ее численности. Последняя перепись прошла в октябре 2019 года, но данные о национальном составе населения пока не обнародованы.
Согласно же переписи 2009 года в стране проживали 13 тысяч евреев, то есть 0,14% из 9,5 миллионов населения Беларуси. (По переписи 1999 года, евреи составляли 0,28% — менее 28 тысяч человек из 10 миллионовграждан). Падение численности еврейской общины связано с ее естественной убылью, а также эмиграцией. Общинные организации Беларуси в 2018 году заявляли о 9-15 тыс. евреев, живущих в стране (встречаются и другие данные — 30-40 тыс.). Израильские демографы (Серджио Делла Пергола, Марк Тольц) оценивают численность этнического «ядра» еврейской общины Беларуси в 13 тыс. человек, а «расширенную еврейскую популяцию», включая совокупность лиц, подпадающих под критерии израильского Закона о возвращении, в 33 тыс.[1]. В первом случае речь идет о «минималистском» подходе, фиксирующем лиц гомогенного еврейского и смешанного происхождения, обладающих устойчивой еврейской идентичностью. Во втором — учитываются остальные сегменты еврейского сообщества, включенных в так называемую «расширенную еврейскую популяцию». Enlarged Jewish population — термин, предложенный группой американских исследователей и адаптированный к постсоветским реалиям Е. Андреевым, А. Синельниковым и М. Тольцем. В эту категорию входят, помимо этнических евреев, также лица еврейского и смешанного происхождения, в ходе переписи определившие себя как неевреи, и нееврейские члены домохозяйств евреев[2].
Национальный состав населения Республики Беларусь (человек) по данным статистического комитета[3]
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | |
| Все население | 8 055 714 | 9 002 338 | 9 532 516 | 10 151 806 | 10 045 237 |
9 503 807 |
| Евреи | 150 084 | 148 011 | 135 450 | 111 977 | 27 810 | 12 926
|
| Всего, человек | В том числе | Городское население | Сельское население | В процентах к общей численности населения | ||
| мужчины | женщины | |||||
| Евреи | 12 926 | 6 692 | 6 234 | 12 611 | 315 | 0,1 |
По данным Национального статистического комитета (НСК) Республики Беларусь на момент переписи в стране проживали представители около 140 национальностей и народностей. В десятку наиболее многочисленных, кроме белорусов, русских (8%), поляков (3%) и украинцев (2%), входили евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы и литовцы. Согласно переписи, численность представителей наиболее многочисленных этносов, как и населения страны в целом, сократилась по сравнению с 1999-м годом. Наиболее существенно уменьшилась численность евреев (в 2,2 раза), украинцев и русских (на треть в обоих случаях), а также цыган (на 29%). По мнению экспертов НСК, это связано как с естественной убылью населения, так и с миграционным оттоком. Также отмечалось, что при проведении переписи ответы на вопрос о национальности записывались со слов респондентов по их желанию, а национальность детей определялась родителями. В переписной лист вносились все названия национальностей и этнографических групп, включая общепринятые и самоназвания[4].
Организационные формы
Поскольку целью статьи не является характеристика национального состава Беларуси, перейдем к анализу деятельности еврейской общины — более или менее организованной части общества, заинтересованной в сохранении и трансляции религиозных, культурных ценностей и традиций евреев. В белорусском контексте речь идет о религиозных общинах и национально-культурных объединениях. Наиболее достоверными представляются данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей — органа, осуществляющего функции государственного управления в этноконфессиональной сфере. В список национально-культурных общественных объединений, зарегистрированных в Республике Беларусь (по состоянию на 1 января 2019 г.), включены 43 еврейские организации, из них в:
Брестской области — 8
Витебской области — 8
Гомельской области — 4
Гродненской области — 4
Минской области — 4
Могилевской области — 4
г. Минске — 11.
Следует отметить, что всего учет ведется по 193 объединениям, представляющим 25 национальностей[5].
Государственная поддержка уставной деятельности национально-культурных объединений предусмотрена Программой развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом, утверждаемой раз в пять лет.
В целях диалога и обмена опытом при Уполномоченном по делам религий и национальностей был создан Консультативный межэтнический Совет, в состав которого вошел председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин (сейчас — В. Черницкий)[6].
В качестве примера еврейских национально-культурных объединений можно привести организации,зарегистрированные главным управлением юстиции Мингорисполкома (по данным на 6 февраля 2019 г.): Минское благотворительное общественное объединение «Гилф» (111 чел.), Минское общественное объединение еврейской культуры имени Изи Харика (78 чел.), Общественное объединение «Еврейский Студенческий Культурный Центр «Гилель» (750 чел.), Молодёжное общественное объединение «Еврейская община «Ашомер Ацаир» (16 чел.), Молодежное общественное объединение «Культурная инициатива «НЭШЭР» (11 чел.), Общественное объединение «Минская еврейская община» (10 чел.)[7].
Наиболее многочисленным национально-культурным объединением является Союз Белорусских еврейских общественных объединений и общин (СБЕООО), включающий 45 еврейских организаций в 20 городах Беларуси, в том числе 7 республиканских структур. СБЕООО выпускает газету «Авив» и журнал «Мишпоха» (публикует прозу, поэзию, публицистику, исторические эссе, статьи по проблемам философии, социологии и демографии)[8].
Что касается религиозных общин, то в Республике Беларусь зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. Общая численность религиозных организаций достигла 3 550 (включая 175 религиозных структур, имеющих общеконфессиональное значение (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестричества, духовные учебные заведения), и 3375 религиозных общин). В три иудейских религиозных объединения входят 53 религиозные общины, располагающие девятью культовыми зданиями. Верующие принадлежат к трем направлениям: ортодоксальному, хасидскому (Хабад) и прогрессивному.
Религиозные организации, зарегистрированные Уполномоченным по делам религий и национальностей (на 1 января 2019 г.)[9]
| Наименование конфессии | Религиозные объединения | Миссии | Духовные учебные заведения |
| Иудейская религия[10] | 2 | 1[11] | 1 |
| Прогрессивный иудаизм | 1 |
Религиозные общины в Республике Беларусь (на 1 января 2019 г.)[12]
| Наименование конфессии | Брест-скаяобласть | Витеб-скаяобласть | Гомельская
область |
Грод-ненская
область |
Могилевская
область |
Мин-ская
область |
Минск | Всего по стране |
| Иудейская религия | 5 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 | 3 | 39 |
| Прогрессивный иудаизм | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Всего | 764 | 552 | 423 | 485 | 291 | 707 | 153 | 3375 |
Сведения о культовых зданиях религиозных общин в Республике Беларусь (на 1 января 2019 г.)[13]
| Наименование конфессии | Брес
тскаяобласть |
Витебская
область |
Гомельская
область |
Гродненская
область |
Могилевская
область |
Минская
область |
Минск | Всего
по стране |
| Иудейская религия
Прогрессивный иудаизм |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Всего | 655 | 454 | 284 | 522 | 196 | 519 | 54 | 2684 |
Религиозные объединения:
Иудейское религиозное объединение (ИРО) в Республике Беларусь — одно из старейших иудейских объединений в современной Беларуси создано более 15 лет назад и относится к ортодоксальному иудаизму. Объединению принадлежит синагога на ул. Даумана в Минске. Председателем ИРО является Г. Л. Хайтович. Объединение издавало газету «Берега» (последний номер вышел в январе 2018 г.)[14].
Хабад или любавичский хасидизм. Центром объединения является синагога на ул. Кропоткина в Минске. Это единственная столичная синагога, занимающая свое оригинальное здание (Центральная минская синагога на Кропоткина возведена в 1910 г.). По данным руководства на праздники в синагоге собирается около 500 человек, а так или иначе к ней имеют отношение порядка тысячи минских евреев. При синагоге функционирует детский центр и частная школа для детей — галахических евреев[15].
Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма (РООПИ) в Республике Беларусь было созданопри поддержке Всемирного союза прогрессивного иудаизма (ВСПИ) в 1993 г. С тех пор число входящих в него общин выросло с 6 до 11, а количество прихожан увеличилось с 500 до 3 000 человек. Общины действуют в девяти городах Беларуси. На ул. Шорной в Минске функционирует синагога, клуб «НеЦеР» реформистского молодежного движения, религиозная школа, центр углубленного изучения иудаизма. Существуют три воскресные школы — в Минске, Бобруйске и Гродно, в каждой из которых занимаются примерно 70 учеников. На ежедневной основе работают три детских сада — в Витебске, Могилеве и Минске, а в Гомеле находится еврейский детский сад и школа «Атиква»[16].
По инициативе Уполномоченного по делам религий и национальностей был создан Консультативный межконфессиональный совет, в заседаниях которого участвуют представители республиканских религиозных объединений православной, римско-католической, иудейской, мусульманской, старообрядческой и протестантских конфессий.
В 2019 г. в рамках заседаний Совета рассматривались вопросы о роли религиозных организаций в содействии укреплению семьи, охраны материнства и детства; об участии религиозных организаций в противодействии распространению идей насилия и экстремизма; о роли религиозных организаций в патриотическом воспитании молодежи и др.[17]
Деятельность общины
Основными направлениями деятельности еврейских организаций и общин являются:
- культурное, национальное возрождение и консолидация евреев;
- популяризация еврейских традиций и культуры среди широких слоев населения;
- сохранение памяти о Холокосте;
- благотворительность.
В последнее время в Беларуси прошел ряд фестивалей, популяризирующих еврейскую музыку, литературу, кухню и т.д., в рамках которых участники могли погрузиться в мир еврейской культуры и традиций. Прежде всего, это ежегодный День еврейской культуры в Верхнем городе Минска, Фестиваль национальных культур и Большой Ханукальный концерт. Все это способствовало возникновению определенной моды на еврейство, появлению ресторанов еврейской кухни и т.п.
3-5 мая 2019 Минск принял более 600 участников Международной еврейской образовательной конференции «Лимуд». Интенсивная трехдневная программа включала более 150 лекций, тренингов, мастер-классов, а также концерты, экскурсии, выставки и отдельную детскую программу. Подобная конференция прошла в Минске уже в четвертый раз, а ее традиционной частью стали мероприятия, посвященные выдающимся евреям — выходцам из Беларуси (выставки, открытие памятных досок и др.)[18].
7-8 ноября 2019 г. в Минске прошел большой фестиваль еврейской народной музыки Litvak Klezmer Fest, организованный музыкантом и исследователем еврейской музыки родом из Беларуси Дм. Слеповичем, ныне проживающим в США[19].
17 ноября 2019 г. в десятый раз состоялся День еврейских знаний, охвативший два города — Минск и Гомель. В том же месяце Минск принял первый фестиваль иврита, организованный Израильским культурным центром «Натив».
В декабре 2019 г. Еврейское агентство в Беларуси инициировало форум «Мосты Израиля», в рамках которого в Мозыре, Минске и Гомеле прошли лекции Я. Файтельсона и А. Демьянова, посвященные языку иврит и Холокосту. Во время празднования Хануки в Минске впервые на открытой площадке прошел фестиваль Hanukice. Программа включала дегустацию национальных блюд, ярмарку, еврейские танцы и живую музыку, мастер-классы, тематическую фото-зону, раскрашивание деревянной ханукии и изготовление короны из пончиков[20].
Активно функционируют образовательные проекты, предлагающие целый спектр тем — от еврейских праздников до истории еврейских местечек, от феномена идиша до еврейской кухни и т.д. В этом ряду — проект для пожилых людей «Леках» в еврейской религиозной общине Минска «Бейс Исроэль»; клуб еврейской культуры, работающий в этом году совместно с Музеем истории и культуры евреев Беларуси[21] и Исторической мастерской имени Леонида Левина и др.
Стоит упомянуть и о различных самодеятельных и профессиональных творческих коллективах — театре«Менора» Витебской городской еврейской общины, Могилевском еврейском театре «Шалом», клубе «Шекель» и др.
Все чаще белорусские творческие коллективы обращаются в своем репертуаре к еврейскому наследию. Так в рамках проекта «Спеўны сход» в витебском музее Марка Шагала в июне 2019 года прошел праздник еврейской песни и танца Zingeray. В августе того же года более 150 человек собрались у филиала «Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций» в Гомеле, чтобы исполнить песни на идише и иврите, а также по-белорусски[22]. Музыкант ансамбля еврейской музыки «Bаreznburger kapelye» Роман Ярош отметил, что «…к еврейским народным танцам коллектив пришел через белорусские танцы. Еврейскую танцевальную музыку мы ищем в архивах, сами собираем в этнографических экспедициях. И теперь белорусские музыканты играют на еврейской вечеринке»[23].
Еврейская тема весьма заметна в современной белорусской литературе. Недавно вышел «еврейский» номер журнала «Прайдзiсвет», где новое поколение белорусских переводчиков представило еврейские произведения в переводах с идиша, иврита, английского и итальянского языков (Хаім Нахман Бялік, Мойше Кульбак, Ісроэл-Ешуэ Зінгер, Аўром Рэйзен и др.)[24] 20 декабря 2019 г. прошла презентация перевода на белорусский язык романа-мистерии Мойше Кульбака «Мэсія з роду Эфраіма» (1924 г.), сделанного историком, журналистом и переводчиком С. Шупой[25].
Отмена виз для граждан Израиля в конце 2015 г. и подписанный 24 июля 2018 г. указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» стимулировали рост туристического потока. Белорусские гиды утверждают, что за последние два с половиной года заметно активизировались еврейские туристы из Израиля, США, Литвы, Польши, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Греции, Италии. Одни представители туристической сферы оценили увеличение потока в полтора раза, другие — в три раза. По цели визита еврейские гости Беларуси делятся на три группы: туризм памяти, паломничество и отдых. В туристическом потоке доминируют индивидуальные маршруты, наиболее часто посещаемые города — Хатынь, Радунь, Воложин, Мир[26].
Туристический бум подстегнул интерес к изучению штетлов и реставрации объектов еврейского наследия. Владельцы некоторых агроусадеб начали добавлять в меню блюда еврейской кухни и организовывать тематические программы.
В рамках трансграничного сотрудничества Польша — Беларусь — Украина был разработан[27] маршрут по штетлам, включающий 20 знаковых мест. Большинство из них находятся в Гродненской и частично Брестской области — Дятлово, Желудок, Ивье, Кобрин, Лунно, Мир, Новогрудок, Индура (центр хасидизма), Радунь (могила раввина Хафеца Хаима), Пружаны, Слоним и др. Новый турпродукт разрабатывался при участии ученых из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Новогрудского историко-краеведческого музея. В рамках проекта прошло несколько экспедиций по бывшим штетлам, были изданы книги-справочники, подготовлено 35 экскурсоводов, специалисты создали также 15 виртуальных трехмерных макетов исторических городов[28].
Туристический бум в Радуни (небольшой поселок в Вороновском районе), куда съезжаются евреи-паломники из Израиля, стран Европы и Америки, привлек внимание инвесторов. Недавно крупная израильская компания взялась за реализацию проекта по строительству здесь гостиницы, ресторана, ритуальной бани-миквы и синагоги.
Как отмечает раввин и посланник Хабада в Беларуси Шнеур Дайч, растущий поток евреев с Запада, посещающих объекты еврейского наследия, укрепляет местную общину, поскольку возвращает Беларусь на еврейскую карту мира.
Не теряет актуальность проблема сохранения памяти о Холокосте. Речь идет об установлении имен погибших, возведении монументов и мемориальных знаков в местах массового уничтожения евреев, проведении семинаров и конференций по истории Холокоста.
«Стена памяти», посвященная самому успешному в Европе побегу из гетто, появилась в Новогрудке в 2019 г. Музей расположен недалеко от Горы Миндовга, на месте бараков трудового лагеря. Открытие мемориала приурочили к 75-летию освобождения Новогрудка от немецко-фашистских захватчиков.
В соответствии с программой Дней памяти, приуроченных к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, Министерством информации был проведен конкурс СМИ на лучшее освещение темы Холокоста. В минском кинотеатре «Центральный» прошла неделя кино, посвященная Холокосту, а в Национальном художественном музее открылась тематическая экспозиция живописи и графики. В Национальном историческом музее совместно с Израильским культурным центром прошла выставка выдающегося художника Меера Аксельрода[29]. В ноябре 2018 г. в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась временная экспозиция «Памяти Минского гетто». Минский горисполком разместил в вагонах метрополитена и на остановках общественного транспорта информационные плакаты, посвященные Дням памяти. В рамках тех же мемориальных мероприятий в школах проводились уроки мужества, встречи с узниками, родными и близкими очевидцев трагических событий, тематические фотовыставки. 22 октября 2018 г. в мемориальном комплексе «Яма» прошел траурный митинг в память о жертвах Минского гетто и Холокоста в Беларуси, а в государственной филармонии был организован вечер памяти. На следующий день состоялся Международный форум «75 лет трагедии и героизма Минского гетто: проблемы и перспективы сохранения памяти о Холокосте в Беларуси», в котором приняли участие лидеры международных еврейских организаций, представители Государства Израиль, стран Европы и США[30].
В 2019 г. в рамках проекта по увековечению мест массового уничтожения евреев Беларуси в годы Холокоста были открыты девять мемориалов. В Ивацевичах (Брестская область) памятный знак появился на месте уничтожения в 1942 г. 600 евреев. В пос. Бытень (Ивацевичский район Брестской области) установили мемориальную доску в память уничтоженных здесь в 1941 — 1942 гг. 2 000 евреев. В Ушачах (Витебская область)открыли мемориал на месте казни в 1942 г. 925 евреев местечка. В пос. Белое (Ушачский район Витебской области) установлен памятный знак на месте уничтожения в 1942 г. 37 евреев[31]. Подобные знаки были установлены также в Лоеве (Гомельская область), Видзах (Браславский район Витебской области), Сиротино (Шумилинский район Витебской области) и Житковичах (Гомельская область)[32].
26 января 2020 г. в Большом зале Белорусской государственной филармонии прошел концерт классической музыки «Желтые звезды», посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста (подобный концерт, приуроченный к этой трагической дате, проходит в Минске уже в третий раз).
В 2015 г. на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» была открыта первая часть одноименногомемориального комплекса[33]. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко предложил государствам, граждане которых погибли в концлагере под Минском, установить памятники вдоль центральной аллеи комплекса. Первой на инициативу откликнулась Австрия. Вторая часть мемориала была открыта в 2019 г.
Особое внимание еврейская община уделяет благотворительности. 12 региональных благотворительных организаций «Хесед» ведут социальную работу с пенсионерами, инвалидами, неполными и малоимущими семьями. При этом до половины иностранной помощи, поступающей в Беларусь от Американского еврейского объединенного распределительного комитета «Джойнт» для реализации данных программ, уходит в бюджет в виде налогов. Министерство по налогам и сборам недавно отменило подоходный налог для инвалидов и пенсионеров за предоставленные им благотворительные патронажные услуги, но упразднение одного платежа проблему не решило. Сотни белорусских евреев, нуждающихся в уходе по возрасту и из-за болезней, платят подоходный налог на помощь, полученную в натуральной форме — лекарства, памперсы, инвалидные коляски, продуктовые наборы и необходимую бытовую технику. Всего с 2016 г., с вступлением в силу президентского декрета № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи», налоговые поступления в госказну от этого вида помощи составили десятки тысяч долларов — до 50% от сумм ежемесячных траншей, пересылаемых «Джойнтом»[34].
Антисемитизм в Беларуси
Государственная политика страны в сфере межнациональных отношений и защиты прав национальных меньшинств базируется на положениях Конституции Республики Беларусь, Концепции национальной безопасности, более 30 международных договорах, Законе «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь» и отдельных статьях более чем 20 различных законов. Эти законодательные акты предполагают защиту от любых действий, направленных на дискриминацию по национальным признакам, создание препятствий в реализации национальными меньшинствами своих прав, разжигание межнациональной вражды[35].
В 2016 г. Pew Research Center (США) провел опрос в 18 государствах, респондентам которого предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они на проживание евреев в своей стране. В Сербии и Болгарии против этого выступили 7% граждан, в Латвии — 9%. В Беларуси, согласно данным Pew Research Center, нежелательными евреев назвали 13% респондентов, в России — 14%, в Польше — 18%. По данным опроса, самый высокий уровень антисемитизма был зафиксирован в Литве (23%) и Румынии (22%)[36].
Согласно опросам АДЛ (Антидиффамационной Лиги), проведенным в 2014 — 2015 гг., число приверженцев антисемитских взглядов (по методике АДЛ) в Беларуси составило 38%, в России — 23%, Украине — 32%[37].
Результаты опроса 2018 года, проведенного среди еврейских общинных лидеров Международным центром общинного развития, показали, что евреи Восточной Европы чувствуют себя в большей безопасности, чем соплеменники на западе континента (96% против 78%). Отметим, что опрошенные в 2018 году еврейские лидеры Европы поставили антисемитизм лишь на шестое место в шкале угроз — его упомянули 56% респондентов. Правда, в 2008 г. его назвали в таком качестве лишь 23%[38].
Исследователи и общинные лидеры[39] отмечают, что на государственном уровне в Беларуси антисемитизма нет. Антисемитские проявления носят, в основном, вербальный характер, случаи вандализма относительно редки. Например, в 2013 году зафиксировано два акта вандализма: в Речице разрушили памятники на еврейском кладбище, а в Бобруйске исписали стены синагоги оскорбительными надписями, разбили стекла и вынесли из здания оргтехнику. В 2016 г. группа молодых людей облила черной краской камень-памятник жертвам Холокоста у входа в бывшее гетто Могилева. Следствие признало подсудимых виновными в злостном хулиганстве.
С антисемитизмом еврейские организации борются при помощи жалоб в органы власти, обращений в зарубежные институции и судебных исков. Последняя форма считается наиболее эффективной. В апреле 2008 г. был осужден вандал, осквернивший еврейские могилы в Борисове в июле 2007 г. К сожалению, надо отметить, что правоохранителям не всегда удается найти вандалов и привлечь их к ответственности[40]. 19 декабря 2008 г.13 изданий, распространяемых сетью магазинов «Православная книга», были признаны судом Советского района Минска экстремистскими, разжигающими национальную и религиозную рознь и содержащими призывы к насильственным действиям.
Периодически происходят скандалы, ставящие под сомнение тезис о толерантности белорусского общества.
В 2017 г. суд Центрального района Гомеля отклонил иск президента Всемирной ассоциации белорусских евреев (США) Я. Гутмана к Гомельскому горисполкому с просьбой отменить решение властей о строительстве жилых домов на бывшем еврейском кладбище. Власть обвинили в дискриминации по национальному признаку, утверждая, что к христианским святыням относятся с большим почтением. По настоянию местной еврейской общины, историков и СМИ стройку все же приостановили, после чего была достигнута договоренность о перезахоронении останков[41]. В феврале 2019 г. в ходе строительных работ на территории бывшего еврейского гетто в Бресте обнаружили останки 730 евреев. Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) призвал правительство Беларуси прекратить строительство, в частности, заявив: «Реализуемый в Бресте строительный проект оскорбляет память еврейских жителей города, хладнокровно убитых именно на этом месте»[42].
Достаточно проблематична ситуация, связанная с ресторанно-развлекательным комплекса «Поедем поедим», построенным в непосредственной близости к лесу Куропаты, где в 1930-х гг. были убиты тысячи жертв сталинского режима. Конфликт усложняет тот факт, что некоторые из владельцев комплекса — евреи. Длительные и массовые протесты против бизнесменов еврейского происхождения провоцируют антисемитскую риторику, чем, в свою очередь, воспользовались российские и пророссийские националисты, отстаивая тезис о расизме белорусов.
Еще один скандал связан с функционированием на базе Клуба исторического танца Центра творчества детей и молодежи Борисовского района капеллы «Жыдовачка»[43], созданной для «исследования и продвижения музыкального и танцевального наследия белорусских местечек (белорусских, польских, еврейских танцев ипопулярных мелодий межвоенного времени)». Имя коллектива понравилось не всем, что привело к волне обсуждения уместности названия «Жыдовачка». Совет белорусских еврейских организаций и общин направил обращение в Администрацию президента, обвинив руководство капеллы в антисемитизме.
Тем не менее, в последние годы в Беларуси не зафиксирован ни один факт антисемитского насилия. Это отражает местные реалии, в которые вписались белорусские евреи, живущие в стране весьма стабильной и безопасной, но с невысоким уровнем свободы. В Беларуси отсутствуют также тенденции ревизионизма Холокоста и прославления пронацистских националистов. Тем не менее, критики режима Лукашенко настаивают, что игнорирование гражданских свобод и прав человека неизбежно отрицательно сказывается на местных евреях.
Заключение
Обращает внимание характерная черта еврейской жизни в Беларуси: при одновременном сокращении численности евреев усиливается активность общины. Эта активность смещается от образовательных инициатив к благотворительности и культурным и просветительским проектам, популяризирующим еврейское наследие и интегрирующим его в культурную жизнь страны. В начале 1990-х гг. более чем в 15 городах Беларуси действовали еврейские воскресные школы и ульпаны (несколько тысяч учащихся). В сентябре 1992 г. в Минске открылась первая еврейская общеобразовательная школа — Республиканская школа-лицей имени Я. Корчака. В феврале 1995 г. был открыт Еврейский университет в Минске. В январе 1999 г. на его базе создан Международный институт имени М. Шагала. В 1996 г. принял первых слушателей Еврейский университет культуры (ректор М. Ривкин). При ИРО открылся Колледж еврейских знаний в Минске[44].
На данном этапе популяризация еврейского наследия приводит к созданию позитивных мифов и новому брендингу. Несмотря на всю сложность и многогранность истории белорусских евреев, акцент делается на идеализации жизни в местечках и трагедии Холокоста. Широко тиражируются популярные мелодии вроде «семь-сорок», пользуется успехом израильская кухня на литвацких фестивалях, сценическая и массовая хореография, выдаваемая за народную. Эти тенденции обусловлены резким сокращением численности носителей еврейской идентичности вследствие Второй мировой войны, внутренней политики СССР и массовой эмиграции. Надеемся, что со временем негативные явления постепенно сойдут на нет, в том числе, при содействии еврейской общины Беларуси.
Д-р Елена Гросс — старший научный сотрудник Центра всеобщей истории и международных отношений Института истории Национальной академии наук Беларуси, старший преподаватель кафедры международных отношений Белорусского государственного университета.
[1] Шевелев Д., «Евреи Беларуси: общий обзор», Euro-Asian Jewish (EAJ) Policy Papers, No 4 (dec 2018), https://institute.eajc.org/eajpp-4
[2] Ханин В., «Социологические и политологические аспекты полемики о еврейской демографии постсоветской Евразии», Евреи Европы и Азии: состояние, наследие и перспективы. Ежегодник ЕАЕК, том 1 (2018 — 2019), с. 43-44
[3] Перепись населения 2009. Национальный состав населения Республики Беларусь. Т. 3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Минск, 2011, с. 433
[4]Итоги переписи: национальный состав жителей Беларуси. БелаПАН https://naviny.by/rubrics/society/2010/11/02/ic_media_infografic_116_3990
[5]Данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей https://belarus21.by/Articles/nac_cult_ob.
[6] Там же
[7]Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома https://minsk.gov.by/ru/org/8751/attach/63624c4.
[8] См. Союз Белорусских еврейских общественных объединений и общин http://евреи.бел.
[9]Данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей https://belarus21.by/Articles/religioznye-organizacii-zaregistrirovannye-upolnomochennym-po-delam-religij-i-nacionalnostej-na-1-yanvarya-2019-g.
[10] Аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей не выделяет в отдельные группы ортодоксальный иудаизм и движение Хабад.
[11] Неясно, что аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей имеет в виду.
[12] Там же
[13]Там же. Следует иметь в виду, что эти сведения отражают лишь количество сооружений, зарегистрированных в качестве культовых зданий в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Данные о местах, предоставленных религиозным организациям для религиозных обрядов, на момент проведения исследования не были доступны автору.
[14] См. Иудейское религиозное объединение в Республике Беларусь https://www.facebook.com/irovrb/.
[15]См. Chabad Minsk https://www.jewishminsk.com/templates/articlecco_cdo/aid/1018850/jewish/-.htm.
[16]См. Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма http://orasimcha.org/about.html.
[17]Данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей https://belarus21.by/Articles/kon_kos_pol.
[18] Лимуд Беларусь https://limmud.by/category/limud-belarus-2019
[19] См. http://klezmerfest.by
[20] Независимый израильский сайт https://belisrael.info/?cat=1489
[21] Музей истории и культуры евреев Беларуси (существует с 2002 г.) осуществляет более 15 программ научно-исследовательского, просветительского и образовательного характера, охватывающих различные аспекты истории и культуры белорусских евреев с XVIII века по настоящее время. В них принимают участие члены еврейской общины страны, учащиеся и учителя школ и вузов, выходцы из Беларуси, живущие в странах СНГ, Израиле, США, Германии.
[22] Независимый израильский сайт https://belisrael.info/?p=20706
[23] Гомельская вясна https://gomelspring.org/be/news/7860
[24] См. Прайдзісвет № 20 http://prajdzisvet.org/archive/20.html
[25] Независимый израильский сайт https://belisrael.info/?tag=evreyskiy-nomer-zhurnala-praydzisvet.
[26]Planeta Belarus https://planetabelarus.by/publications/dorogami-shtetlov-ili-chto-ostalos-ot-bogatogo-evreyskogo-naslediya.
[27] См. http://shtetlroutes.eu/ru/about-us/
[28]Газета «Звязда» http://zviazda.by/ru/news/20170430/1493547420-v-belarusi-poyavilis-evreyskie-turisticheskie-marshruty.
[29] Меер Моисеевич Аксельрод (5 июля 1902 — 10 января 1970) — советский художник, член общества «4 искусства», автор серии «Гетто», «Воспоминания о старом Минске», цикла «Немецкая оккупация».
[30] Данные аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей https://belarus21.by/New/press-konpherenciya-upolnomochennogo-po-delam-religij-i-nacionalnostej-gulyako-lp.
[31] Союз Белорусских еврейских общественных объединений и общин http://евреи.бел/novosti/belarus/vizit-semej-lazarusov-i-kletterov.-otkrytie-memorialnyh-znakov.html.
[32] См. https://www.wikiwand.com/ru/Памятники_жертвам_Холокоста_в_Белоруссии.
[33] Название «Тростенец» объединяет урочище Благовщина — место массовых расстрелов, лагерь рядом с деревней Малый Тростенец в 10 километрах от Минска по Могилевскому шоссе, а также урочище Шашковка — место массового сожжения людей. После войны рядом с местом массовых расстрелов появилась мусорная свалка, а первый памятный знак был установлен здесь только в 2002 г.
[34]Deutsche Welle https://www.dw.com/ru/как-иностранная-помощь-для-евреев-пополняет-бюджет-беларуси/a-39363929.
[35]«О национальных меньшинствах в Республике Беларусь». Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1992 г. № 1926-XІІ
[36]Thinktanks.by. Сайт белорусских исследований https://thinktanks.by/publication/2018/04/03/pew-research-center-v-belarusi-uroven-antisemitizma-13.html. Более поздние опросы приводили иную статистику (прим. ред.)
[37] Чарный С., «Антисемитизм на постсоветском пространстве: обзор современной ситуации», Евреи Европы и Азии: состояние, наследие и перспективы. Ежегодник ЕАЕК. Том 1 (2018 — 2019), с. 57-58
[38]Чернин В., «Результаты опроса еврейских общинных лидеров Европы» https://institute.eajc.org/результаты-опроса-еврейских-общинны/.
[39] См. Хейфец В., https://citydog.by/long/diaspory-jews/; «Что делать с антисемитизмом в Могилеве, где почти нет евреев?» https://www.dw.com/ru/a-39143292; Иоффе Э. https://lechaim.ru/ARHIV/175/VZR/m02.htm; Левин Л., https://interfax.by/news/policy/raznoe/1118866/; Чарный С. «Антисемитизм на постсоветском пространстве: обзор современной ситуации» и др.
[40] Белорусские евреи в шести историях https://interfax.by/news/obshchestvo/kultura/90126/
[41] Еврейский обозреватель https://jew-observer.com/novosti/sud-v-belarusi-otkazalsya-ostanovit-stroitelstvo-na-byvshem-evrejskom-kladbishhe/.
[42]«Лехаим» https://lechaim.ru/news/vsemirnyj-evrejskij-kongress-belarus-dolzhna-ostanovit-stroitelstvo-na-meste-ubijstva-evreev/.
[43]Сам коллектив называет себя (Ня)клезмерская капэла «Жыдовачка» См. https://www.facebook.com/pg/zhydovachka.shtetlfolk/about/?ref=page_internal.
[44] Электронная еврейская энциклопедия https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/10487/.