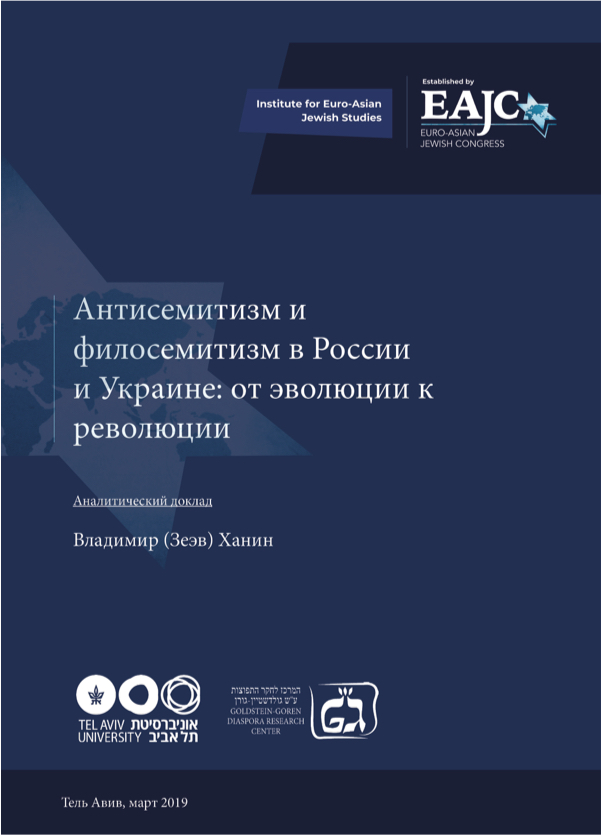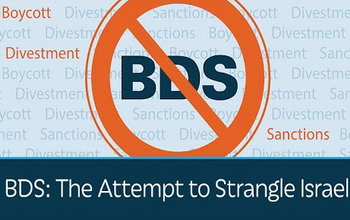Очевидно, что в большинстве мусульманских стран региона Ближнего Востока еврейская жизнь подходит к своему завершению. Интенсифицировавшийся с образованием Государства Израиль процесс репатриации евреев на свою историческую родину привел к подлинному их исходу из стран ислама. На таком фоне достаточно редким феноменом является неиссякаемое еврейское присутствие в Исламской республике Иран. Сегодня там живет самая большая за пределами Израиля еврейская община ближневосточного региона. В то время какнекоторые считают иранских евреев пешками в политической игре, которую ведет ИРИ, важно взвешенно констатировать сам феномен выживания общины в таких экстремальных условиях. Она живет вопреки увеличению изоляции Ирана, вытекающему, в том числе, из поощрения им агрессии и терроризма против Израиля и евреев повсюду в мире.
Очевидно, что в большинстве мусульманских стран региона Ближнего Востока еврейская жизнь подходит к своему завершению. Данный факт чрезвычайно печален, ибо именно эти общины символизировали в течение многих веков сосуществование евреев и мусульман. В исламских странах жили и творили выдающиеся деятели культуры и науки. Интенсифицировавшийся с образованием Государства Израиль процесс репатриации евреев на свою историческую родину привел к подлинному их исходу из стран ислама. Например, в Сирии, где в течение многих веков существовали многочисленные и процветающие еврейские общины, и которая стала в средние века одним из центров еврейской учености, а книги сирийских раввинов были хорошо известны в Европе и печатались по всему миру, ныне не найти ни одного еврея.
Практически иссякла еврейская жизнь в Египте, с которым неразрывно связана вся история формирования евреев. Именно здесь случились главные события еврейской истории – избавление от рабства и исход. В средние века здесь опять забурлила еврейская жизнь, высочайшего уровня достигло еврейское образование. Именно в Египте расцвел такой гений еврейской учености как Саадия Гаон. Накануне основания Государства Израиль в Египте жили 65 тыс. евреев, а община считалась самой урбанизированной и эмансипированной в Азии и Африке. Ныне ее количество исчисляют лишь десятками человек. Столько же евреев живут сегодня в Йемене, где история общины восходит к временам царя Соломона и царицы Савской. Можно констатировать исчезновение еврейской жизни в Ираке, Ливане, Саудовской Аравии, Иордании.
Евреи в Иране
На таком фоне достаточно редким феноменом является неиссякаемое еврейское присутствие в Исламской республике Иран. Сегодня там живет самая большая за пределами Израиля еврейская община ближневосточного региона. Ее количественные показатели разнятся: в 2015 г. депутат иранского парламента от еврейской общины страны Сиамак Морэ-Седдек определил число проживающих в Иране евреев в 25 тысяч человек. По другим оценкам, их численность не достигает и 10 тысяч человек.
Еврейская община Ирана с традициями более чем двух с половиной тысячелетий пребывания в стране, имеет свое культурно-историческое наследие, показывающее ее глубокую укорененность в иранскую почву. За века их проживания в стране евреи давно перешли с иврита на местные еврейские диалекты, которые находятся в данное время на стадии исчезновения. В силу своего статуса религиозного меньшинства, евреи вплоть до начала XXв. проживали в специальных кварталах и в основной своей массе мало контактировали с окружающим населением. Тем не менее, большинство иранских евреев были как минимум билингвами. Вдобавок к местным еврейским диалектам они, разумеется, говорили и на стандартном фарси. Носители еврейско-персидского называют свой язык «фарси». Неевреи часто называют этот язык джидиили джуди, причем это имеет бранный или уничижительный оттенок. В последние десятилетия более всего распространен этноним калими. Имеются и местные еврейские диалекты, которые отличаются в разных регионах страны. Так, в районе Исфахана образовался специфический диалект ‑ городское арго жителей Исфахана периода средневековья, которое еврейская община, проживавшая много веков в пределах гетто, сохранила с тех времен в неприкосновенности. И он еще используется различными поколениями местных евреев и выходцев из этого города в Израиле, а также в США, главным образом ‑ в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке.
В XX в., когда евреи были уравнены в гражданских правах со всеми жителями страны, начался процесс их выхода из еврейских кварталов и постепенного перехода на стандартный фарси вместо локальных еврейских говоров. Однако в языковом отношении фарси еврейских граждан Ирана в течение десятилетий отличался от языка нееврейского населения своим словарным составом и специфическими словоупотреблениями, и фразеологией, а также своеобразной интонацией, произношением, выдававшим необычность этой общины. Разумеется, это относилось к первому поколению, последующие перешли на полноценный стандартный фарси.
Представители третьего и последующих поколений евреев Ирана, вышедших из еврейских гетто городов, уже не понимают локальные еврейские диалекты, да и просто не пользуются ими. Евреи, получившие современное образование на фарси, владеют этим языком лучше, чем их сородичи, получившие лишь традиционное еврейское образование внутри еврейских кварталов.
С многовековым пребыванием евреев в Иране связано большое число объектов культурно-исторического наследия. Часть из них внесена в государственный реестр как подлежащие охране. Но в последние годы в Иране не раз происходили инциденты вокруг этих объектов, связанные с требованиями радикальных исламистов превращения иудейских святынь в объекты исключительно исламского культурного наследия.
Историческая ретроспектива
Еврейская община Ирана знавала и лучшие времена. История общины восходит к 8 в. до н.э., когда в результате ассирийского пленения часть евреев оказались на территории Мидии – первого крупного государства, на территории современного Ирана. Двумя веками позже, в 550 г. до н.э., иранский царь Кир (Курош) основал империю Ахеменидов, в границах которой проживали все евреи того времени, а 538 г. обнародовал историческую декларацию, которая позволила евреям вернуться в Иерусалим и приступить к восстановлению своего разрушенного Храма. Однако значительная часть евреев, почти полностью ассимилированная и достигшая социального и экономического благополучия, предпочла остаться на чужбине. Так образовалось ядро еврейской диаспоры к востоку от Евфрата.
В начале новой эры в Иране жило уже достаточно многочисленное и хорошо организованное еврейское население, пользовавшееся развитым местным общинным самоуправлением. Евреи находились и во властных структурах, достигая самых вершин. Расцветала высокая духовная культура, которая «иногда даже посягала на первенство палестинских мудрецов». Именно из Ирана еврейские общины распространялись дальше на восток, вначале – в Среднюю Азию, а потом и в регионы далее, на восток от нее.
С приходом в 7 в. ислама положение немусульманских меньшинств стало определяться общемусульманскими правовыми нормами. Евреи, вместе с христианами, были признаны «людьми Книги», что давало им защиту жизни и имущества и право исповедовать свою религию. В то же время они не имели никаких политических прав и были значительно ущемлены в гражданских правах. Значительное ухудшение положения иранских евреев зафиксировано с объявлением шиизма, характеризующегося обостренной нетерпимостью к «неверным», государственной религией Ирана в правление Сефевидов (1502–1736 гг.)
Улучшение жизни иранских евреев пришло лишь с восшествием на престол шаха Музаффар-эд-дина (1896–1907 гг.), в годы правления которого в стране развернулось конституционалистское движение, приведшее к реальным изменениям во многих сферах жизни. Численность еврейской общины определялась в тот период в 83 тыс. человек. Основная ее часть проживала в Центральном и Южном Иране, остальные в Иранском Азербайджане и Курдистане, небольшая часть на побережье Персидского залива. Они занимались преимущественно мелкой разносной торговлей, ремеслами; более состоятельные – ростовщичеством, ювелирным делом, кабачным промыслом, торговлей коврами и антиквариатом. Либерализация политической и социально-экономической жизни позволила евреям выйти из гетто, и дало возможность расширить сеть светского и религиозного образования. В 1915 г. была основана первая еженедельная газета на персидско-еврейском языке «Шалом». Возникли сионистские организации.
Однако фактическая эмансипация иранского еврейства связана с установлением в 1925 г. новой династии Пехлеви. На жизнь еврейской общины страны самым благотворным образом сказались многочисленные реформы в общественно-политической и культурной жизни, переход к светской системе просвещения, сужение сферы контроля шиитского духовенства над внутренней жизнью страны. Евреи смогли учиться в государственных учебных заведениях, поступать на государственную службу. Реформы в области экономики позволили иранским евреям в должной мере проявить предпринимательские способности и инициативу, в течение веков ограничивавшиеся в условиях проживания в гетто. Проводившаяся в стране политика иранского национализма и возвеличивания доисламской истории страны, ее самобытности была с одобрением воспринята большинством евреев, с новой силой ощутивших себя частью культурного наследия страны и ее древней истории.
К концу Второй мировой войны у иранских евреев уже сложились отлаженные связи с различными еврейскими общинами стран Европы и Америки. Это также повлекло за собой оживление религиозной и культурной жизни местных евреев. Возникло сионистское молодежное движение, которое видело свою основную цель в подготовке еврейских юношей и девушек к переселению на историческую родину.
Послевоенные десятилетия стали временем подлинного расцвета иранской еврейской общины. Пиковыми явились годы реализации «белой революции». Эти полтора десятилетия – 1963–1978 гг. – явились для Ирана временем существенных успехов в промышленном подъеме страны, реформы в аграрном секторе, заметных культурных преобразований. Иран вошел в десятку развивающихся стран мира, увеличив за эти годы в 8 раз размер валового национального продукта. Это самым положительным образом сказалось на еврейской общине в Иране, несмотря на ее сокращение в связи с непрекращающейся репатриацией в Израиль. Она стала реально пользоваться почти абсолютной культурно-религиозной автономией. Заметно повысился культурно-образовательный уровень иранских евреев, в их среде стали нередкими такие специальности как врачи, инженеры, фармакологи, преподаватели вузов. В нескольких городах страны, в частности, Тегеране и Ширазе, появились религиозные учебные заведения – ешивы, возросло количество школ, где преподавались еврейские традиции, Тора, иврит, история еврейского народа. Большой размах получило книгоиздание по еврейской тематике на фарси и иврите.
Руководство еврейской общины страны поддерживало тесные отношения с последним иранским шахом Мохаммадом-Резой Пехлеви. Повышению престижа и роли иранских евреев в жизни страны в немалой мере способствовал рост международного авторитета Израиля, особенно после его победы в Шестидневной войне в июне 1967 г., успехи еврейского государства в развитии передовых технологий, экономики, культуры, науки. Сюда же можно отнести достигшие в этот период своего пика двусторонние связи между Ираном и Израилем, носившие взаимовыгодный характер и полностью отвечавшие ожиданиям иранского руководства.
В итоге, накануне исламской революции в Иране проживала самая большая на Ближнем Востоке, не считая Израиля, еврейская община, доля которой составляла менее 0,25 % населения страны. Однако экономический вес общины, ее профессиональный уровень и культурный потенциал были несравнимы выше. Так, среди 4 тыс. профессоров и старшего преподавательского состава иранских университетов и других вузов было 80 евреев, что составляло 2%. Евреями были 6% врачей, 4% от студентов иранских вузов. Отметим, что Организация еврейских студентов Тегеранского университета была единственной официально разрешенной властями общественной структурой студентов иранских вузов.
Под властью исламистов
С резким подъемом в 1977 г. антишахского движения все былые временные преимущества иранских евреев обратились им во зло. Их экономическое преуспевание, близость к шаху, поддержка его политического курса, солидарность с Израилем и «американским империализмом» в свете все более проявлявшего себя ослабления центральной власти и консолидации антишахской оппозиции не сулили еврейской общине страны ничего доброго. В таких условиях руководство еврейской общины посчитало разумным отмежеваться от шаха и проявить в ноябре 1978 г. солидарность с демонстрантами, выступавшими под антигосударственными лозунгами, выразив тем самым безусловную поддержку надвигавшейся исламской революции.
Исламская революция, свершившаяся в Иране 1 февраля 1978 г., радикально изменила как отношении Ирана с Израилем, так и в жизнь всей еврейской общины. По сути, она положила начало подлинному исходу еврейской общины из Ирана. Накануне революции в Иране проживало 85 тыс. евреев, что делало эту общину одной из крупнейших среди религиозных меньшинств страны. К 1999 г., в течение двадцати лет после установления в стране исламского режима, Иран покинуло более 50 тыс. евреев.
Несмотря на уверения разных иранских религиозных деятелей, что их борьба направлена против сионизма, Израиля, контроля евреев над миром, а не против иудаизма и еврейского народа, идеологическая доктрина аятоллы Хомейни представляет собой сочетание мусульманских антиеврейских идей с закоренелым европейским антисемитизмом. Евреев считают «заклятыми врагами» ислама, а Израиль и сионизм, – врагами исламского мира. Декларативно политика исламского режима в отношении еврейского религиозного меньшинства исходит из следующего постулата: мы проводим четкую дифференциацию между евреями, с одной стороны, и Израилем и сионизмом, – с другой. Однако на деле иранские лидеры постоянно идентифицируют иранских евреев с Израилем и сионизмом.
Все это привело к тому, что антиеврейские гонения при новом режиме приняли угрожающие размеры. Их жертвами пали десятки евреев, в том числе – лидеры еврейской общины Ирана. Сразу после стабилизации исламского режима были предприняты широкомасштабные акции по конфискации собственности, принадлежавшей евреям, в том числе – различных предприятий, отелей, культурно-развлекательных учреждений. Постепенно в Иране была создана правовая база, существенно затруднившая для евреев получение лицензий на занятие мелким и средним бизнесом.
На официальном уровне в Иране не препятствуют религиозной жизни евреев. Действительно, в стране имеется несколько десятков синагог, их значение в общинной жизни евреев Ирана возросло, так как там евреи ощущают себя в большей безопасности. В Тегеране функционируют две еврейские школы – одна для мальчиков – «Абришами», и другая – для девочек – «Эттефак», во главе которых стоит назначаемый Министерством просвещения мусульманин. В этих школах ученики-евреи составляют большинство, но есть и ученики-мусульмане. Еврейские ученики изучают Танах на персидском языке. При этом занятия в школе проводятся и в субботу, а в используемых учебниках широко представлены антисемитские и антиизральские сюжеты. Евреям разрешено в домах и культовых заведениях соблюдать традиции иудаизма, включая употребление вина, тогда как мусульманам это категорически запрещено.
В Тегеране работает специальный учебный компьютерный центр для еврейской молодежи, имеется трехъязычный (в том числе – на иврите) общинный интернет-портал. Интеллектуальная жизнь общины отображается в ежемесячном журнале «Офогэ бина». В Тегеране сейчас сконцентрирована основная часть иранских евреев – около 55%. Им более всех доступны услуги, представляемые общиной – кошерная пища, услуги резников, специальные молодежные клубы, служба знакомств и др. В столице работают и 20 из 40 действующих в Иране синагог. Большинство иранских евреев соблюдают все предписания своей веры. Особенно это касается довольно многочисленного в их среде среднего класса. В целом иранская еврейская община ныне более религиозна, чем в дореволюционный период, а местные синагоги более заполнены, чем тогда.
Несмотря на глубокую историю «вживания» еврейской общины в иранскую почву, в стране введены определенные регламентации, противопоставление евреев Ирана мусульманскому населению страны. Это касается вводимых время от времени ограничений на выезд из страны, получения выездных виз, специальных штампов в паспорте о принадлежности к еврейскому религиозному меньшинству. Сюда же можно отнести существовавшие в течение ряда лет требования к владельцам торговых заведений, в основном — продовольственных, помечать на входной двери принадлежность владельца к религиозному меньшинству. Существуют и другие виды откровенной дискриминации, вписывающиеся в понятие «нарушение прав человека». Это – препятствия, чинимые властями в области трудоустройства, получения высшего образования, судопроизводства, где до сих пор существуют преференции для мусульман и ограничения для религиозных меньшинств, в первую очередь, – евреев. Это касается дискриминации евреев в сфере государственной службы, в возможности карьерного роста, работы в сфере народного образования, получения академических степеней.
Отметим еще один чисто местный феномен – использование антисемитизма и еврейского фактора в политической борьбе в исламском Иране. В последние десятилетия там не раз отмечены случаи, когда радикалы пытаются приписать еврейство как унижающую характеристику некоторым руководителям исламского режима для их дискредитации. С этой целью в стране даже бытует термин «скрытые евреи». Так, в октябре 2009 г. в мировых и иранских СМИ появились статьи, указывающие на еврейские корни тогдашнего президента ИРИ М. Ахмадинежада. И утверждали, что подобно многим евреям, порвавшим с иудаизмом и перешедшим в другие религии, М. Ахмадинеджад усиленно нападает на мировое еврейство, чтобы скрыть свое подлинное происхождение.
Более «свежий» пример – использование того же приема в истории с финансовыми и имущественными злоупотреблениями хорошо известной в Иране семьи Лариджани. 5 братьев Лариджани являются сыновьями популярного шиитского богослова аятоллы Амоли. В конце 2016 г. в местных СМИ замелькали утверждения о том, что клан Лариджани, на самом деле, имеет еврейские корни, но когда-то они перешли в ислам, «для того, чтобы изнутри подорвать основы исламского режима и в конце концов обрушить его». Разумеется, широкая пропаганда «еврейства» семьи Лариджани в иранских СМИ, рассчитанных на внутреннюю аудиторию, способствовала нагнетанию антисемитских настроений в иранском обществе.
Современное положение
Есть достаточно оснований утверждать, что в стране на официальном уровне нет механизмов нейтрализации антиеврейских настроений. Не утихает антиизраильская и антисемитская кампания в иранских СМИ, инициатором которой можно считать покойного аятоллу Хомейни, которому приписывают фразу «Нет никого хуже евреев [Израиля]». Несмотря на это, последние два десятилетия можно констатировать в целом достаточно сбалансированную позицию в отношении еврейской общины. После революционных потрясений она успешно восстановила все свои духовные, образовательные, культурные и прочие институции. Без помех реализуется ее представительство в Собрании исламского совета (парламенте). Иранский избирательный закон позволяет крохотной общине, составляющей 0,04 процента населения стране иметь своего представителя в парламенте.
Понятно, что еврейские депутаты парламента занимают отчетливо коллаборационистские позиции. Из их уст нередко раздаются обвинения в адрес Израиля как главного врага Ирана и всего исламского мира, они идут в первых рядах в разного рода антиизраильских демонстрациях и шествиях. Однако иногда они пытаются и реально отстоять права общины. Так, в октябре 1999 г. тогдашний еврейский депутат Манучехр Эльяси выступил в парламенте за соблюдение прав группы арестованных евреев-«шпионов». Другой депутат – Морис Мотамед, чересчур активно отстаивавший права своих единоверцев, был досрочно отозван из законодательного органа.
За годы исламского режима в Иране не раз регистрировался всплеск антисемитизма на бытовом уровне, элементами которого были увольнения среди местных евреев или принуждение к переходу в ислам с целью сохранения своего положения в обществе. Такие тенденции обострялись и в тяжёлые для страны годы, когда на базе экономических трудностей и финансового кризиса возникала необходимость в поиске цементирующего нацию внешнего врага. Это неминуемо приводило к нагнетанию антиамериканской истерии и, естественно, обвинению во всех смертных грехах его союзника Израиля, сионизма, и, как продолжение этой цепочки, имело следствием репрессии против еврейской общины Ирана, для многих в ИРИ по-прежнему ассоциировавшейся с Израилем. Имеется достаточно фактов утверждать, что антисемитская пропаганда является спланированной кампанией, рассчитанной на конкретные слои иранского общества.
Разумеется, на положении еврейской общины сказывается изменение политической конъюнктуры в стране. По сути, община живет в состоянии хрупкого равновесия, которое в любой момент может нарушиться. Ее стабильность в значительной мере зависит от взаимоотношений по линии постоянно углубляющейся жесткой конфронтации между Исламской республикой Иран и Государством Израиль. На еврейской общине отражаются и перипетии внутрииранской политики.
Либерализация, наступившая в стране после ирано-иранской войны или приход к власти президентов либералов С.М. Хатами в 1997–2005 гг. или Х. Рухани в 2013 г. благоприятно сказались на положении общины. В эти годы были решены некоторые острые проблемы, не нашедшие прежде своего разрешения. Так, при С.М. Хатами были облегчены условия выезда иранских евреев за границу, стало возможным восстановить отношения с родственниками и друзьями, проживающими за границей, в том числе – в Израиле. Положительно можно расценить и такие показательные шаги как открытие в декабре 2014 г. на еврейском кладбище Тегерана памятника еврейским воинам, павшим в ходе ирано-иракской войны 1980–1988 гг. с участием вице-спикер парламента Ирана Мохаммад-Хасана Абатораби-Фарда. Смысл церемонии состоял в том, чтобы продемонстрировать всему миру, что исламский Иран является на самом деле мультирелигиозным государством, в котором реализована свобода вероисповедания не только мусульманами, но и адептами других религий, в том числе ‑ иудейской.
В течение всего послереволюционного периода еврейская община ИРИ и руководство страны пытаются лавировать между позиционированием еврейской общины как воплощения свободного существования официально признанной еврейской религиии неуклонно реализуемой исламским режимом ИРИ политикой антиизраилизма и антисемитизма, антисионизма и антииудаизма, балансируя на их хрупкой грани. Режим исламской республики никогда официально не одобрял систематического преследования своих еврейских граждан, но течение всего послереволюционного времени антисемитские высказывания регулярно озвучивались высшим религиозным руководством страны и публиковались консервативной прессой. Однако реальность такова, что еврейская община Ирана все еще считается самой большой в регионе Ближнего Востока. В условиях исламского режима, подвергающего ее неимоверным испытаниям, она продолжает вести свою религиозную и общинную жизнь. Встречаясь со многими трудностями – резким уменьшением своей численности, экономическими лишениями, дискриминацией на бытовом уровне, община пытается сберечь свое культурное и материальное наследие. В то время какнекоторые считают иранских евреев пешками в политической игре, которую ведет ИРИ, важно взвешенно констатировать сам феномен выживания общины в таких экстремальных условиях. Она живет вопреки увеличению изоляции Ирана, вытекающему, в том числе, из поощрения им агрессии и терроризма против Израиля и евреев повсюду в мире.