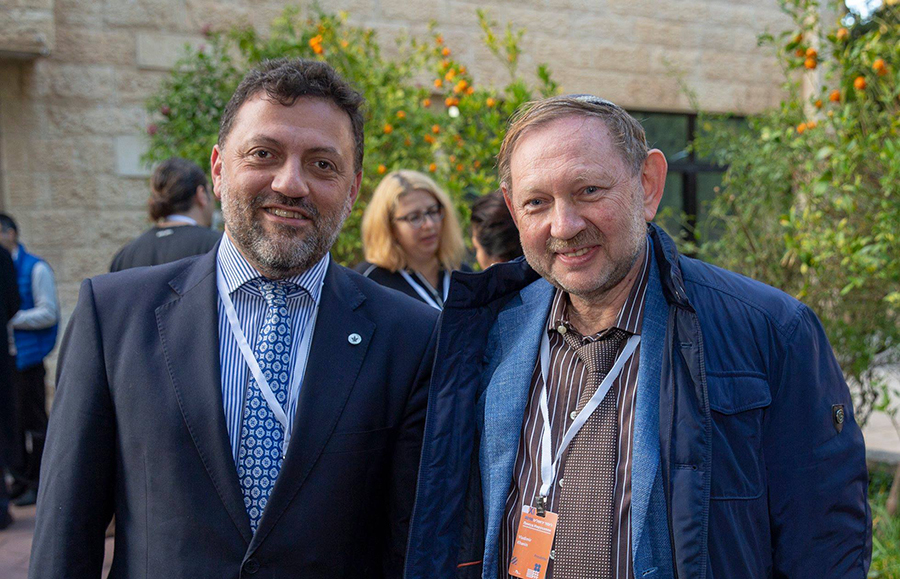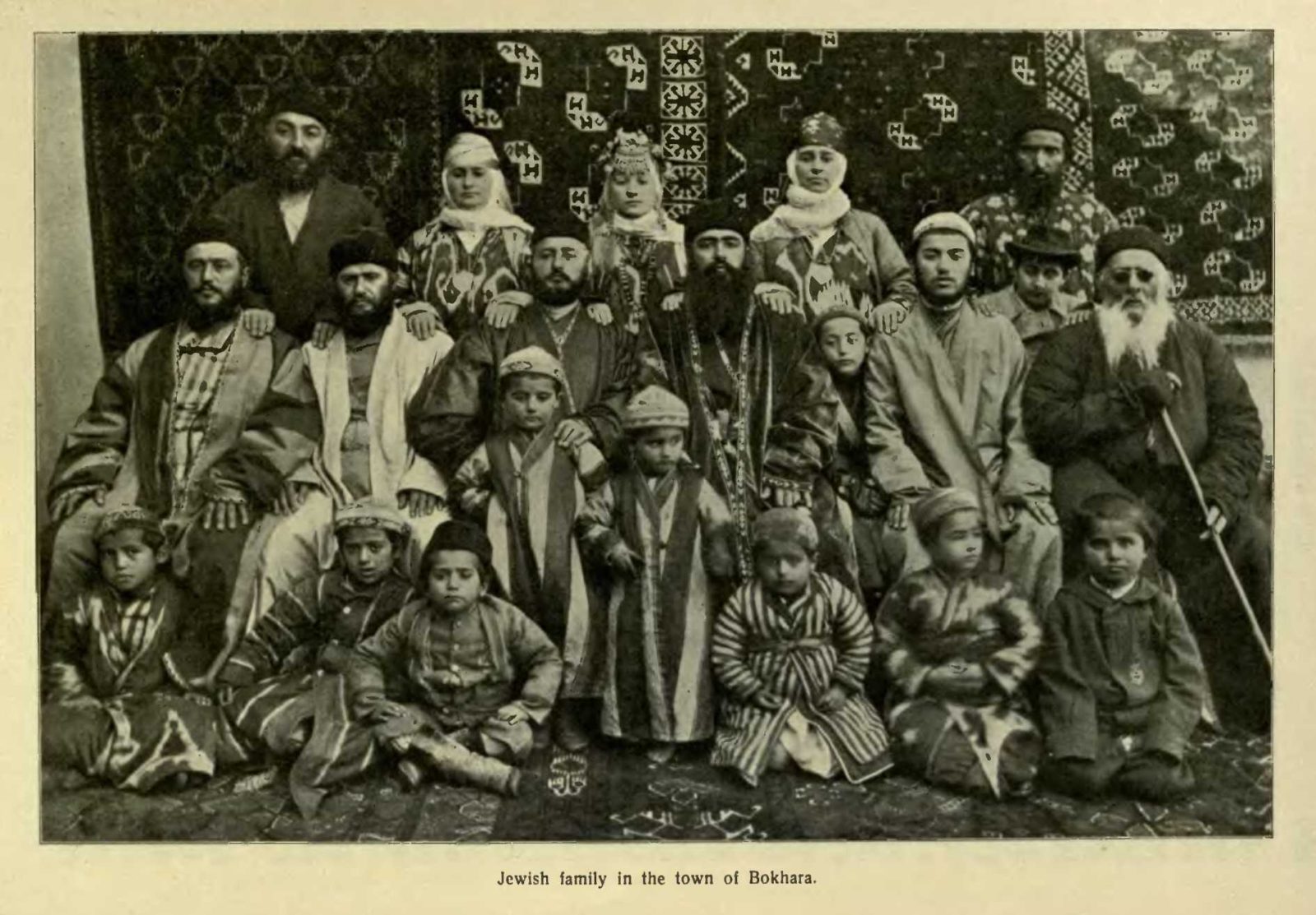Фото: IDF Spokesperson’s Unit photographer
Беспрецедентно острый для последних лет, ознаменовавшихся развивающимся партнерством Израиля и России в целом ряде сфер экономики, дипломатии и культуре, кризис в отношениях Иерусалима и Москвы, стал итогом инцидента, имевшего место 23 сентября с. г. в небе над Сирией. Тогда одной из десятков ракет, выпущенных батареями российских систем С-200, находящихся на вооружении сирийских ПВО, был сбит самолет электронной разведки Ил-20 действующих в Сирии ВКС России. Эти события рассматривались под разным углом, и в какой-то момент приобрели определенный еврейский контекст.
Израильско-российский дипломатический контекст
Следует начать с того, что в данном инциденте российская сторона поспешила обвинить ВВС Израиля, которые примерно в это время (в рамках соглашений и пониманий, в свое время достигнутых между лидерами Израиля и России) проводили очередную операцию против формируемой на территории Сирии Ираном и про-иранскими террористическими группировками антиизраильской инфраструктуры. По данным СМИ, целью истребителей ЦАХАЛа было уничтожение разгруженного в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, и на момент начала сирийцами «беспорядочной стрельбы», как ситуацию описывали израильские и зарубежные СМИ, выполнившие свою миссию израильские F-16, уже находились в воздушном пространстве своей страны.
Согласно версии Минобороны РФ, «сознательно», а по более «мягкой» версии Кремля – «в результате технического сбоя в системе взаимного оповещения» ‑ израильские F-16 тогда, якобы, «прикрылись» российским Ил-20, что, по мнению российской стороны, и привело к его уничтожению сирийскими ПВО и гибели офицеров ВКС, находившихся на борту сбитого самолета. При этом в военном и политическом истеблишменте РФ предпочли проигнорировать переданный российской стороне командующим ВВС Израиля генералом Амикамом Норкиным подробный, подкрепленный снимками, показаниями радаров и аудио- и видеозаписями, отчет о происшедшем, целиком возлагающий ответственность за случившееся на сирийцев.
Впрочем, обозреватели не преминули отметить, что, несмотря на резкий тон, отчет минобороны РФ, в основном предназначенный, скорее, для «внутреннего потребления», не содержал никаких конкретных угроз или предупреждений в адрес Израиля. В свою очередь, израильтяне тоже предпочли не повышать тон дискуссии и воздержаться от публикации отчета Норкина, что, скорее всего, полностью лишило бы россиян свободы дипломатического маневра в этом вопросе, в то время, как и в Иерусалиме, и в Москве явно выражали заинтересованность сохранить механизм координации действий сторон в Сирии.
Если острота политических и дипломатических составляющих этого конфликта за прошедшие месяцы явно снизилась, этого пока нельзя сказать о других его аспектах. И одним из наиболее заметных стали возможные публичные последствия «патриотической» кампании во многих российских СМИ, в том числе, на федеральных телеканалах, где приглашенные в студии многочисленных телевизионных ток-шоу российские публичные фигуры буквально соревновались в жесткости антиизраильских выпадов и озвучивали заявления, находящиеся на грани, а то и за гранью антисемитизма.
Хотя вскоре эта кампания (надо полагать, не без намека соответствующих инстанций) была практически свернута, остается вопрос: были ли озвученные анти-израильско-антисемитские сентенции выражением соответствующих, пусть и в последние два десятилетия почти ушедших из легитимного публичного пространства, но никуда не девшихся, широких общественных настроений, либо их следует отставить исключительно на совести сравнительно маргинальной группы их авторов?
Что говорят опросы
Определенный ответ на этот вопрос могут дать масштабные репрезентативные опросы мнений россиян, регулярно проводившиеся в последние годы такими авторитетными социологическими организациями, как Центр изучения общественного мнения имени Ю. Левады («Левада-центр») и Московский центр исследования антисемитизма и ксенофобии «Сова».
Принято считать, что с распадом СССР и отменой политики и практики дискриминации евреев, в странах, возникших на развалинах этой империи, включая Россию, еврейский вопрос потерял свое прежнее значение. Многолетний мониторинг общественных взглядов в отношении различных этнических, национальных и религиозных групп, который с 1992 года проводит Центр имени Юрия Левады, показал постепенное улучшение мнений российских граждан в отношении евреев на протяжении последней четверти века. Около 10% россиян относятся к членам этой группы «с симпатией» и более 80% демонстрируют «позитивно-нейтральное» отношение к ней, в то время как негативное отношение проявляли, соответственно, 13, 16 и 8% респондентов всероссийских опросов общественного мнения в 1992, 1997 и 2015 годах. То есть, евреи, в том числе и в силу драматического снижения их численности вследствие эмиграции, превратились в своего рода «малозаметный объект» и, в отличие от советских времен, перестали занимать место «главного внутреннего врага», которое перешло к иным кандидатам. Для России более актуальными в этом плане оказались мигранты из мусульманских регионов Кавказа и постсоветской Центральной Азии, а также новые-старые (Запад) и новые (Грузия, Украина, страны Балтии) внешние враги.
Кроме того, постсоветские режимы, включая российский, обычно без восторга относятся к любым непрошеным инициативам, в том числе, сильно портящим имидж этих режимов антисемитским демаршам радикальных кругов. Что касается противоположного идеологического лагеря, то в России практически отсутствует заметная группа левонастроенных интеллектуалов, которые, как их европейские визави, несли бы на себе груз моральной ответственности перед народами третьего мира за колониальное прошлое. И потому, по крайне мере пока, там не испытывают необходимости присоединиться к хору леволиберальных и прочих нечуждых антисемитским настроениям критиков Израиля, именуемого в этих кругах «последней европейской колониальной силой», и параллельно возводящих вину на евреев за (якобы) угнетение палестинского народа. Наконец, для большинства «мусульманских» народов бывшего СССР, чья идентификация носит в основном этно-национальный, а не религиозный характер, идея обще-исламской солидарности и сопутствующий ей антисионизм, во многих случаях являющийся прикрытием или стимулом антисемитизма, носит весьма абстрактный характер. Все это, среди прочего, объясняет замеченную экспертами «Левада-Центра» тенденцию снижения антисемитизма в России и рост благожелательного отношения русского населения к евреям последних лет[1]. Так, доля респондентов, которые полагали, что лишь немногие из их соотечественников являются антисемитами, за 25 лет выросла с 21 до 45 %, то есть более чем в два раза, в то время как лишь менее пятой части опрошенных полагали в 1990-2015 годах, что этот феномен все еще в России широко представлен.
В целом, среди тех россиян, кто признался в наличии у них антипатии к тем или иным этническим, национальным, культурным и религиозным группам, евреев в 2015 году упомянули менее 10%, поставив их тем самым на 9-е, последнее место в «рейтинге ксенофобии» (после цыган, азербайджанцев, таджиков, украинцев, узбеков, чеченцев и армян). Последнее по времени исследование «Левада-Центра» в рамках мониторинга ксенофобских настроений (19–25 июля 2018 года) также показало, что самая жесткая социальная дистанция у россиян была к цыганам: в июле 2018 года 43 % опрошенных сказали, что «не пускали бы» их в Россию. Второе и третье место занимает поддержка изоляционистских барьеров в отношении «темнокожих» (33 %) и «выходцев из Средней Азии» (30 %). Каждый четвертый россиянин «не пускал бы» в страну китайцев и чеченцев (по 27 %), а каждый пятый – украинцев (22 %). А вот в отношении евреев фиксируется как раз минимальный уровень поддержки позиции на запрет проживания в стране – 15 % россиян; напротив, в отношении евреев, а также украинцев, у жителей России самая близкая дистанция. Готовность к брачно-семейным и соседским отношениям с ними, т.е. суммарный уровень допустимости видеть их в качестве членов своей семьи, близких друзей или соседей, составила в 2018 году 27 % и 20 % соответственно.
Если это так, то «потенциал евреев» в качестве механизма негативной идентичности, в большой степени исчерпан. Из имеющихся, «наиболее живая», по определению Левинсона, версия антисемитизма в России распространена как раз среди элитных групп, прежде всего, в кругах сравнительно успешного населения крупных урбанистических центров[2]. Эти группы, довольно часто оппозиционно настроенные к правящим кругам РФ, в условиях экономического кризиса в России и роста конкуренции за профессиональные, социальные и управленческие позиции в верхних общественных сегментах, стали новым генератором антисемитских идей и представлений[3]. Это объясняет и причину более выпуклого проявления этого фактора в Москве, в то время как на низовом уровне евреи почти не конкурируют с русскими за рабочие места, поэтому и не вызывают негативной реакции.
В целом же, если верить данным этого исследования, в структуре ксенофобских настроений населения России, ниша антисемитизма занимает сравнительно скромное место. Состояние антисемитских убеждений у населения России следует считать «пассивным»; потенциал мобилизации агрессивно настроенных контингентов можно с некоторой осторожностью признать весьма ограниченным, а в перспективе – все более слабым. Понятно, что изменение социально политической ситуации может оказать негативное воздействие на это процесс. Не исключено, что нечто подобное происходит уже сегодня, в связи с объявленной реформой пенсионной системы и другими процессами в экономической сфере, первой реакцией общества на которые, по славам обозревателей, была растерянность, страх и обида на власть.
Тем не менее, по сравнению с другими видами ксенофобии – расовой отчужденности, враждебности к мигрантам, приезжим из Средней Азии или Кавказа, людям из западных стран – активные антиеврейские установки в середине 2018 года были выражены лишь у небольшого числа населения России.
«Антисемитизм в действии»
Судя по числу актов вандализма, носящих антисемитский характер (ущерб, нанесенный синагогам, общинным центрам, еврейским кладбищам и мемориалам, а также граффити антисемитского и/или неонацистского содержания на таких объектах) в 2010-2017 годах, зарегистрированных международными мониторинговыми структурами, картина, действительно, не столь уж драматична.
Однако в докладе Центра Кантора при Тель-Авивском Университете отмечается, что в 2017 году в России было больше, чем ранее вербальных проявлений антисемитской ксенофобии. И такие инциденты, как вандализм, антисемитская пропаганда (обвинение евреев в проблемах станы и мира, и т.д.) и использование антисемитских сюжетов в политических целях имели место и в 2018 году[4]. Руководители Российского еврейского конгресса (РЕК) также отмечали растущее число подстрекательских высказываний (hate declarations) местных политиков и общественных лиц, что, согласно их выводам, «ведет к постепенной легализации антисемитизма в публичной сфере»[5].
«Практический антисемитизм» в России включал такие сюжеты как:
- Преступления на почве ксенофобии: антисемитские граффити и свастики на памятниках жертвам Холокоста и военных кладбищах и прочие упомянутые выше акты вандализма против еврейских религиозных, общинных и образовательных учреждений объектов;
- Резонансные подстрекательские заявления, подобные высказываниям зампреда Госдумы от правящей партии «Единая Россия» Петра Толстого и его коллеги по партии Виталия Милонова[6];
- Материалы антисемитского характера, в том числе, и призывов к насильственным действиям, распространяемые посредствам сотен публикаций в печатных и электронных медиа ежегодно.
Проведенное в 2018 году «Левада-центром» количественное исследование «Восприятие антисемитизма глазами евреев России», показало, что в течение последних пяти лет лишь 5–9 % опрошенных верили в заметный рост числа таких проявлений как антисемитские граффити, осквернение еврейских кладбищ и могил, вандализм в отношении зданий, в которых расположены еврейские организации, агрессия по отношению к евреям на улице и в других общественных местах. Напротив, подавляющее большинство опрошенных считали, таких случаев стало меньше, или их количество осталось на прежнем уровне. В то же время, рост антисемитизма в прессе, а также в политике и в культурной жизни отметили 17 % респондентов, а в интернете и социальных сетях – 33 %.
Распространение, возрождение или укрепление различных вариантов «бытового антисемитизма».
Список ксенофобских, по своей природе, стереотипов такого рода включает, например, обвинениям евреев в якобы имманентно присущих им враждебности к иным национальным, расовым и религиозным группам и стремлению навредить им. Там же ‑ утверждения, что «евреи управляют Россией и миром», что «евреи сами виноваты в антисемитизме» и перенесение на них различных социальных фобий: вера в отсутствие у евреев «русского патриотизма», стремление во всем искать личную выгоду вместо служения интересам своей страны.
В исследованиях российского населения Левады доля носителей таких убеждений выросла с чуть более 40 % в 1997 до почти половины в 2015 (приблизительно с 40 % в 1997 до 50 % в 2015 гг.?), в основном, за счет опрошенных, ранее не имевших мнения на этот счет. Причем, чем менее образованы и старше были респонденты, тем чаще они верили в подобное.
Различные формы политического антисемитизма.
Среди этих форм ‑ использование «еврейской карты» в политике, антисемитизм левых и праворадикальных групп, очернение с помощью активизации антисемитских фобий политических противников, «бюрократический антисемитизм» (предвзятое отношение к евреям чиновников высокого ранга) и манипулятивное отрицание Катастрофы европейского еврейства.
В итоге, как отмечает социолог Денис Волков, антисемитизм «начинает тестироваться. Раньше было неприлично… а сейчас вдруг оказалось можно, и такие заявления раздаются на самом верху… У Думы невысокий уровень одобрения, но депутаты – это те люди, которые имеют доступ на телеэкраны и говорят с позиции власти». В итоге, заключает руководитель московского центра исследования антисемитизма и ксенофобии РЕК «Сова» Александр Верховский, «много лет антисемитизм, как особо табуированная фобия, был признаком маргинальности. То, что он сейчас выходит из маргинального поля, может привести к тому, что антисемитизма будет больше и он станет более нормализованным»[7]. Похоже, что именно эта тенденция была причиной того, что 54,4 % респондентов проведённого в 2018 году исследования «Восприятие антисемитизма глазами евреев России» полагали, что антисемитизм в современной России является «серьезной» или очень серьезной проблемой.
«Если… распространится идея, что Россию надо защищать, спасать, ‑ полагает Гудков, ‑ тогда евреи могут попасть на роль предателей, ибо они жертвовать собой во имя России, предполагается, не будут». В сегодняшней ситуации, по его мнению, еще нет готовности объявить их «пятой колонной», есть лишь потенция подобного развития событий, что является важным моментом в смысле рисков развития антисемитизма[8].
Что все это означает на практике?
Как бы то ни было, пока что ярко выраженного антисемитского запроса ни со стороны властей в адрес общества, ни со стороны общества в адрес правящего класса, судя по всему, не существует. Приведенные данные позволяют заключить, что антисемитизм в России находится на самом низком, в отличие от других фобий, уровне в массовом сознании.
Однако следы прежней неприязни, как традиционной, так и советского государственного антисемитизма, прослеживаются вполне отчетливо. Оценки и данные замеров в России показывают наличие нормы, осуждающей публичное или открытое выражение этнического неравенства и этнической неприязни, но это не означает ее отсутствия в латентной форме, что, согласно выводу обозревателей, при изменении обстоятельств может выйти на поверхность и уже сейчас дает возможность сравнительно легкого нарушения этой нормы различными институтами в публичной сфере[9]. Это выражается, прежде всего, в фиксируемой опросами потенциальной готовности в определенной мере поддержать (в случае если российские власти сочтут «целесообразным») политику этнической дискриминации или в устойчивом стремлении регулировать (ограничивать) доступ к значимым (властным или общественно влиятельным) социальным позициям для всех «нерусских», в том числе, и евреев.
Остается надеяться, что данная опция будет и в дальнейшем носить сугубо умозрительный характер.
[1] Гудков Л.Д., Зоркая Н.А., Кочергина Е.В., Лезина Е. 2016. «Антисемитизм в структуре массовой ксенофобии в России: негативная идентичность и потенциал мобилизации». Вестник общественного мнения. 1–2.
[2] Алексей Левинсон и Юрий Канер. 21.04.2016 «Русские считают, что ими должны управлять русские». Meduza.
[3] См.: 01.11. 2016. «Глава «Левада-центра» рассказал о «спящей фазе» антисемитизма в России». ТАСС. http://tass.ru/obschestvo/3752043
[4] Irena Cantorovich. «The Post-Soviet Region». In: Moshe Kantor Database for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism. 19-20.[5] Цит. по: Елена Мухаметшина. 28.02.2018. «Российские политики стали позволять себе антисемитизм». Ведомости: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/28/752211-politiki—antisemitizm
[6]Ксения Клочкова. 24.01.2017. «В «исаакиевской» истории договорились до антисемитизма». Фонтанка.ру (СПб): https://www.fontanka.ru/2017/01/24/004/
[7] Цит. по: Елена Мухаметшина. 28.02.2018. «Российские политики стали позволять себе антисемитизм». Ведомости: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/28/752211-politiki—antisemitizm
[8] Гудков Л.Д. 2015. Отчет о проделанном качественном исследовании «Отношение к евреям со стороны основных групп российского городского населения». Москва: Левада-центр.
[9] Алексей Левинсон и Юрий Канер. 21.04.2016 «Русские считают, что ими должны управлять русские». Meduza.