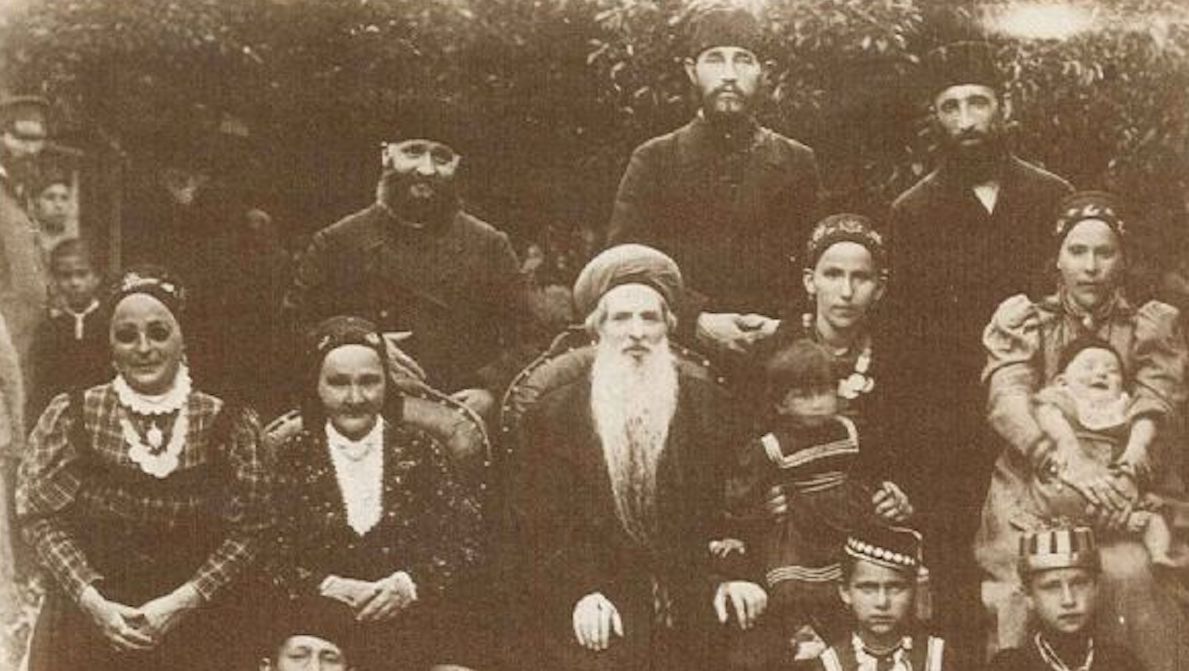Предварительные замечания
Будущее еврейских общин — проблема сохранения ими и передачи следующим поколениям уникальной идентичности — одна из наиболее дискуссионных тем в эпоху ассимиляции. На практике, речь идет об ответе на два вопроса: сохранится ли физически еврейство в России, и насколько благополучным будет его существование.
Данная статья суммирует выводы недавнего исследования Аналитического центра им. Ю. Левады (Москва), призванного ответить на эти и смежные с ними вопросы. Исследование проведено под руководством А. Левинсона методом анкетного опроса по электронной почте (первичная обработка данных выполнена С. Королевой). Набор респондентов проводился по базе «Левада-Центра» и частично методом «снежного кома». Общее число опрошенных составило 70 человек. Ведущим критерием отбора являлась компетентность респондента в вопросах самоорганизации и перспектив еврейских общин России. Помимо представителей столичного (московского, и отчасти петербургского) еврейства в выборку вошли респонденты с еврейскими корнями, считающие себя русскими, армянами и т.д. (10 чел.).
На вопросы ответили руководители исследовательских центров, еврейских общественных организаций, ведущие ученые-гебраисты и специалисты в других гуманитарных областях, политические аналитики и политики, персоны из мира медиа, профессора и доценты университетов, активисты НКО, писатели и поэты.
Большинство опрошенных — москвичи, остальные проживают в других городах РФ, а также в Австралии, Нидерландах, США и Германии. В контексте вероисповедания абсолютное большинство составили неверующие/атеисты/агностики, девять человек отнесли себя к иудеям, семь — к православным христианам, один указал, что он мусульманин.
Политическая ориентация респондентов колеблется от умеренно-либеральной до выраженно-либеральной (термин «либеральный» употребляется в современном значении, выступая синонимом к скомпрометированному в 1990-е годы слову «демократический»). Есть основания полагать, что именно в этом диапазоне пребывает и основная часть статусного столичного еврейства. В то же время в выборке не представлены евреи с антилиберальными взглядами, принадлежащие к высшим властным кругам. К сожалению, представители бизнеса, в частности шоу-бизнеса, оказались не достижимы для организаторов опроса. В исследовании также не представлены евреи, глубоко включенные в общинно-религиозную жизнь.
Таким образом, выборка представляет высоко-статусную еврейскую (и не только) интеллигенцию, с преобладанием лиц старшего возраста. Высокий средний возраст в данном случае напрямую связан со статусом, поскольку респонденты заняты в сферах, где вертикальная мобильность в значительной мере привязана к возрасту.
Иными словами, здесь репрезентирован определенный (и, что особенно важно, — исторически определенный) социальный тип людей, принадлежащих, если использовать популярный термин, к «креативному классу» общества, и одновременно задающих тон в структурах организованного еврейского движения РФ. Проведенные ранее «Левада-Центром» исследования среди не-столичного и не-элитарного еврейского населения показали, что этих людей в еще большей степени, нежели наших респондентов, отличает присущее россиянам в целом отсутствие представлений о будущем как общественной перспективе (при вполне внятной артикуляции личных перспектив).
«Еврейство» как категория — смысл и содержание
Прежде всего, сам вопрос о «еврействе» как обобщающем понятии для многих респондентов оказался не столь очевидным.
Готовность употреблять слово «еврейство» по отношению к некоторой общности предполагает, что эта общность явно обладает общими социальными характеристиками, но не опознается как этническая. В самом деле, ни одна национальная группа не обозначается в современном русском языке обобщающими существительными такого типа (-ство)[1]. Зато так определяются социальные группы, выделяемые по признаку статуса (дворянство, мещанство, крестьянство, монашество, рыцарство, офицерство или юношество).
Не случайно, часть опрошенных возражали против предложенных им обобщающих формулировок:
— Что такое «еврейство»? Я такого не знаю и не понимаю.
— Какие такие «евреи в целом»?
Респонденты контрастировали не только с «традиционным» еврейством местечек — давно исчезнувшим (частью истребленным) социальным типом. Они намеренно дистанцировались и от евреев, «делавших революцию» и тоже большей частью истребленных. Говоря о себе и современниках-евреях, замечали, что их много в бизнесе, масс-медиа и др., «и, слава богу, больше нет среди чекистов». Отличали они себя и от поколения отъезжантов, как, в известном смысле, героического. Эмиграция ныне не окрашена в драматические тона, поскольку допускает возвращение, проживание на два дома и проч. Наши респонденты иначе, чем евреи 1970-х, решают вопрос своей идентичности и лояльности России. Хотя у многих близкие родственники проживают в Израиле, а часть имеет израильское гражданство, с евреями Израиля они себя тоже не отождествляли.
Существенно также, что около 10% респондентов заменяли или дополняли этническую самоквалификацию иной (например, «москвич» или «еврей/москвич»). Довольно часто участники вводили дополнительное определение: «российский еврей», «русский еврей», «московский еврей», «еврей по паспорту, идентичность русская». Иными словами, они чувствовали свою особость не только по отношению к нееврейскому населению России, но и в сопоставлении с иными еврейскими группами. В антисемитской шутке «евреи — не нация, а профессия», если применять ее к современному российскому еврейству, отчасти верна первая часть. В чем-то верна и вторая часть формулы, поскольку члены этой общности объединены в своих (и не только) глазах типом занятости, местом в общественном разделении функций и т.д.[2]
В прошлые века такими профессиональными, а по сути, социальными сословными нишами, были операции с деньгами или ценными вещами (от алмазов до одежды и обуви). Далее в эту сферу вошло обслуживание важнейших жизненных функций — медицина, например.
Покинув оболочку национальной традиции, евреи вошли в культурный ареал принимающего большинства. Не раз отмечалось, что остаточные элементы «чужести» создавали не только препятствия, но и преимущества в освоении нового культурного материала. Итогом стали достижения в искусствах и науке, технологиях и образовании. Людей, занятых в данных сферах (а это большинство наших респондентов) принято относить к интеллигенции. Их характеризует общий этос, много общих черт бытовой культуры, речевого поведения и проч.
Участникам опроса эти маркеры заменили утраченные традиционные атрибуты этнической/национальной/племенной общности (в ее «классическом» понимании); они активно участвовали в создании этого культурного набора, они его и (у)потребляют.
Мы далеки от мысли, что данная культурно-историческая композиция уникальна. С другой стороны, не везде еврейское меньшинство переживает такие же трансформации. Но в регионах, где еврейский (прежде всего — ашкеназский, говоривший на идиш) культурный комплекс проходил ускоренное, за одно — три поколения, растворение в окружающей социокультурной среде, результаты этого процесса можно назвать чрезвычайными. Подсчеты количества евреев — лауреатов, призеров, авторов выдающихся произведений и т.п. — суть доказательства того, какие возможности открывают в этой культуре агенты, овладевшие ее нормативно-ценностной базой. Но при этом сохранившие, во-первых, некоторую дистанцию от нее, а во-вторых, ряд не присущих ей установок, регулирующих интеллектуальную и эмоциональную активность актора. С нашей точки зрения коррекции требуют обычно подразумеваемые утверждения:
а) эти достижения оказались возможны именно потому, что их авторы — евреи. Этот тезис не полностью верен, как и противоположное утверждение, а именно:
б) эти люди добились выдающихся результатов, поскольку оставили свое еврейство и целиком погрузились в другую культуру.
Мы полагаем, что секрет успеха этих почти-ассимилированных агентов именно в их остаточном маргинализме[3].
Выше мы обсуждали формулу «евреи — не нация, а профессия», в рамках которой там, где другие проявляют национальные черты, евреи ведут себя как представители профессиональной корпорации. Теперь мы говорим о зеркально-симметричной ситуации. В профессиональной сфере частично ассимилированные евреи способны отмобилизовать ресурсы культуры, которой обладали, будучи нацией.
Из сказанного следует, что успешность еврейства на ниве европейской культуры — фазовый эффект. Остаток ашкеназской культуры, выступающий как своего рода легирующая добавка к европейскому корпусу культурных ресурсов, присутствует у этих людей в ситуации расставания с этой частью еврейской культуры. Расставания, которое тянется на протяжении двух, трех, четырех поколений. Теперь мы на пороге следующей фазы. Имеется в виду исчезновение не еврейства, а данного исторического типа еврейства и появление следующего. Этот следующий тип обнаруживается скорее отсутствием у респондентов представлений о будущем еврейства.
Наше исследование, по сути, зафиксировало определенный момент в истории столичной российской интеллигенции с пометкой «еврейская». Л. Гудков и покойный Б. Дубин давно объявили о кончине советской интеллигенции[4]. Ко всем обстоятельствам, упомянутым этими авторами в качестве причин исчезновения интеллигенции как класса, наши еврейские собеседники на первом месте называют отъезд как механическую убыль, а на втором — убыль естественную, обусловленную демографической ситуацией. Некоторые, коль скоро интеллигенции уже нет, а они существуют, подыскивают для себя иное социально-профессиональное определение (например, «еврейский интеллектуал»). Другие готовы называть себя «остатками советской интеллигенции».
Есть и те, кто в конец интеллигенции не верит. И судьбу еврейства связывает с судьбой интеллигенции.
— Мне кажется, евреи в России ХХ века стали просто метафорой интеллигенции и поэтому будущее евреев — это будущее российской интеллигенции.
Как уже было отмечено, вопрос о будущем еврейства в России оказался наиболее сложным. Отказ отвечать на него — основная реакция аудитории.
Показательна резко повышенная эмоциональность ответов-отказов:
— Я — не Ванга!
— Я — не Нострадамус.
— Я как историк не считаю возможным…
— Вопрос непрофессиональный…
— Как можно задавать такие вопросы?!
Из ответов на другие вопросы можно реконструировать, какие представления о будущем еврейства, т.е. своем будущем, существуют у респондентов, какие заблокированы, на месте каких — зияния.
Сложность когнитивной ситуации, рождающая отказ от ответа, состоит в ощущении респондентов, что люди, подобные им, в России больше появляться не будут. К этому ведут и суженное воспроизводство собственно еврейского населения, и эмиграция. Но тем же чревата и хорошо им известная трансформация (деградация) науки как института, исчезновение запроса на деятельность, в которой они достигли успеха.
Вместе с тем эти люди не готовы признать свою неуместность в современной и будущей России. В опросе приняли участие лица, не настроенные на отъезд. Их этос предполагает ответственное отношение к собственному гражданству, поэтому столь многочисленны заявления, что «евреи нужны и будут нужны России».
Когнитивный диссонанс рождается из столкновения двух тезисов: «евреи будут нужны России всегда» и «такие люди, как мы, не будут нужны России».
Дополнительную сложность создает вопрос об антисемитизме.
Его отсутствие в нынешней России признается, с теми или иными оговорками, практически всеми, и это благоприятно для расцвета «еврейской жизни». Но многочисленны проговорки, что «еврейство без антисемитизма не бывает», без него «оно исчезает. Без антисемитизма у евреев в России собственного будущего, по-моему, нет». (Этот вопрос более подробно рассмотрен в соответствующем разделе).
Такие соображения в коллективном сознании части еврейства также рождают своего рода ступор.
Собственно, поэтому нельзя ответить на центральный вопрос исследования «о будущем еврейства, по мнению евреев», просто обобщив мнения респондентов — их нет. Мы вынуждены реконструировать этот ответ из других реакций и рассуждений.
Рассмотренный нами исторически определенный тип российского столичного еврейства в ближайшем будущем начнет сходить со сцены и сойдет. Но это не приведет к исчезновению еврейства из российской жизни. Исчезает тип еврея, боровшегося за первенство в русской и европейской культуре, тип, давший плеяду знаменитостей. О том, что ему на смену приходит другой вид, исследование позволяет лишь догадываться (этому посвящена последняя часть материала).
Респонденты признают, что евреи в России более не выполняют функцию агентов модернизации:
— В нынешней России у евреев нет никакой роли. В Средние века, в начале Нового времени у них было определенное место (роль) в тогдашней структуре общества, экономике и т.д. В XIX и XX веках — эпохе всеобщей эмансипации — евреи не как сообщество, а как люди с общей судьбой выступали агентами перемен. Даже в 1990-е это было в какой-то мере так. Но сегодня специальной роли у евреев нет.
Это не означает, что инноваций в России больше нет, просто изменились институциональные формы заимствований.
Первый путь — прямой импорт. Еще в прошлом исследовании, где респондентами были евреи, занимающие должности на уровне среднего звена, говорилось: «Мы же теперь ничего не производим, все только на импорте — и любая гайка, и морковка…». Респонденты нынешнего исследования указывают на отсутствие рабочих мест для экспертов высокой квалификации (ранее они были нужны для заимствования и освоения заимствованных технологий):
— Молодые, наиболее высокообразованные (среди которых по инерции много евреев) убывают на более развитые рынки труда за рубежом.
Второй путь — когда инновации идут, не нуждаясь в посредниках, — это прямой приход иностранных компаний со своими технологиями.
Третий вектор, характерный для массовой культуры, — массовая адаптация новаций пользователями Интернета. Там, безусловно, имеет место посредничество, но оно структурно встроено в ткань коммуникации (а не выделено в особую функцию).
Все эти формы исключают функцию, исполняемую евреями на протяжении жизни двух — четырех поколений в России (и некоторых других странах). Эта функция интродукторов, инноваторов придавала ее носителям такой вес, что они зачастую оказывались лидерами в различных коллективах, что институционально закреплялось исполнением руководящих функций.
Другой результат тех же обстоятельств — приобретение евреями не власти, но авторитета, который оформлялся в виде званий, наград, популярности/известности.
Пароксизмы открытой борьбы с космополитизмом или введения негласной «процентной нормы» ставили границы и первой, и второй тенденции. Даже если у исполнителей приказов о чистках и разоблачениях «врагов народа» не было предубеждений против евреев, репрессии физически уничтожили или лишили статуса значительную часть российского еврейства, достигшего значимых позиций в советском обществе.
Сегодня, когда эпоха пребывания евреев на авангардных постах заканчивается, от нее остается шлейф воспоминаний. Старшему поколению привычно видеть еврея в любом контексте как выделенную, помеченную особым отношением фигуру. Это смесь почета-уважения с негативными чувствами зависти, презрения, отторжения.
Для более молодых естественно, что еврей если и выделяется, то не статусом, не положением на вертикали, а способом отыгрывания своей роли (положением на горизонтальных социальных позициях). Это знак новой эпохи в истории российского еврейства.
Мы используем термин «еврейство» для обозначения объекта исследования, хотя определить социальную категорию, которая этим словом обозначается, было крайне затруднительно для наших респондентов.
— Целостность еврейства сама по себе сомнительна. В прежние времена, когда евреев удерживали вместе религия и язык, можно было говорить о еврейском народе как о чем-то целостном. Сегодня эта постановка вопроса кажется мне неверной.
По сути, все ответы о будущем еврейства укладывались в схему, отражающую два внутренних процесса и два внешних. Внутренние процессы — это ассимиляция или обращение/возвращение к традиции. Внешние — это два вида антисемитизма — государственный и бытовой.
Согласно переписи 2002 г., медианный возраст евреев составлял 57 лет. С тех пор прошло почти 20 лет, и в нашей выборке преобладают лица 60+. Возможно, поэтому их представления о социальном устройстве российского общества и месте в нем евреев находятся под влиянием взглядов, существовавших в 1960-е — 1970-е гг.
Имеется в виду расхожее представление о том, что российское общество в последние три века функционировало следующим образом: наверху — власть, внизу — народ, а между ними — прослойка в виде интеллигенции. Российское еврейство в те же 1960-е — 1970-е имело все основания причислять себя именно к интеллигенции.
Эта трехчастная структура общества, видимо, продолжает существовать в головах наших респондентов. Но она трансформировалась, и в их представлении стала системой, где на месте интеллигенции оказалось еврейство. Таким образом, еврейство не является частью народа (в данном случае, русского), и не имеет отношения к власти. Таково их базовое представление о месте евреев в России.
Разумеется, в другом еврейском дискурсе присутствует тезис о принадлежности евреев если не к русскому, то к российскому народу, как прежде они принадлежали к советскому. Есть и считающие, что евреев (слишком) много во власти — это многократно утверждалось антисемитами и иногда признавалось самими евреями. Оба мнения известны респондентам и оба расцениваются ими как маргинальные для «российского еврейского дискурса».
В то же время российское еврейство, по их убеждению, плотно включено в ткань российского общества и живет той же жизнью, что и все остальные: «Я не знаю, что будет с евреями в России через пятьдесят лет; возможно, уже не будет России в нынешнем виде, а в новой России не будет евреев».
Эта зависимость представлялась сама собой разумеющейся. В пафосе утверждения, будто евреи живут одной жизнью со всей страной, со всем народом, надо видеть яркое проявление ассимиляционной составляющей еврейского массового сознания. Как и любое массовое сознание, оно вмещает и предполагает утверждения противоположного толка — об особости еврейской судьбы в этой (и любой другой) стране.
Антисемитизм как фактор
Как отмечают респонденты, ситуация для евреев определяется не только факторами, существенными для всех россиян, — положением в экономике и действиями власти. Дополнительным обстоятельством является отношение этих «всех» к евреям. Поскольку в восприятии респондентов оно варьировалось от плохого до очень плохого (нынешний период — исключение), то всегда обозначалось как антисемитизм. Многие эксперты, скептически настроенные относительно будущего России, давали такие же удручающие «еврейские» прогнозы, предрекая рост антисемитизма. Напротив, немногочисленные оптимисты в отношении будущего России (которое видится им демократическим) полагали, что и судьбы еврейства не внушают опасения.
Несмотря на то, что беседа начиналась с тезиса о том, что антисемитизм в РФ находится на исторически минимальном уровне, разговор о будущем еврейства, тем не менее, сбивался на дискуссию об антисемитизме в его разных проявлениях.
Наши респонденты, напомним, в общем и целом принимали триаду народ, власть, евреи как основу рассуждений. Соответственно, на вопросы об антисемитизме мы получали три типа ответов. Один из них касался антисемитизма в российском обществе вообще. Не менее часто респонденты говорили об антисемитизме власти — так называемом государственном антисемитизме, и антисемитизме народа — так называемом бытовом.
Дальше шли выводы об источниках антисемитизма. Многие из опрошенных в качестве такого источника указывали на власти всех уровней — от мелких чиновников до верхов, делая обязательную оговорку, что нынешняя верховная власть — не антисемитская. В этом случае с народа обвинение в антисемитизме снималось.
Есть и вторая точка зрения, состоящая в том, что источником антисемитизма является народ, прежде всего русский (но также и украинский). Русский народ по своим природным, имманентным свойствам настроен антисемитски. Дальше все дело за властью, которая либо дает разгуляться этим настроениям, либо по каким-то причинам их ограничивает. И в этом смысле нынешняя власть спасает евреев от разгула антисемитизма, который неизбежен, дай народу волю. Иногда это формулировалось так: сейчас антисемитизм сведен к минимуму, но это лишь пауза, а стоит власти перестать демонстрировать лояльность к евреям, вспыхнет народный антисемитизм, возможно, в более жестких формах, чем ранее.
Есть и третья точка зрения, основанная на том, что власть и народ в России имеют общий корень и оба компонента этой пары изначально настроены против евреев.
Антисемитизм рассматривается как данность, но его усиление или ослабление связывают с общественно-политической конъюнктурой.
О государственном антисемитизме высказывались часто и пространно, хотя в большинстве случаев соглашались, что в настоящее время он отсутствует или находится на исторически минимальном уровне.
— Снизился уровень государственного антисемитизма, почти до нуля — имею в виду снятие дискриминационных ограничений.
— Отношение к евреям в современной России определяется отношением к ним политического класса. Поскольку основной сегмент этого класса не заинтересован во всплеске антисемитизма, отношение к евреям в России относительно благожелательно.
— Евреи перестали быть политическим фактором в сегодняшней России, что снижает вероятность возрождения государственного антисемитизма.
— Если говорить о государственной политике, то частью ее антисемитизм не будет практически при любом развитии политической ситуации.
Отметим, что «оптимистический» прогноз давался преимущественно в профессионально-политологическом нарративе. Прогноз пессимистический пользуется более простой схемой детерминации. В некоторых случаях респонденты указывают на власть как оператора, способного выключить или включить государственный антисемитизм.
Более развернутое объяснение давали опрошенные, связывающие активизацию антисемитизма с конкретными процессами внутри российского (русского) общества. Были получены следующие объяснения ожидаемого роста антисемитизма (при этом преимущественно указывают на бытовой антисемитизм):
— Если все здесь будет ухудшаться, то отношение тоже будет ухудшаться. В отношении евреев. Так как бытовой антисемитизм вообще в подкорке и в любой момент выстреливает.
— Антисемитизм будет спадать при оптимистическом сценарии, может незначительно возрасти при инерционном сценарии и, вероятно, резко возрастет при пессимистическом варианте развития России.
Впрочем, были и ожидания его угасания по причинам исчезновения самих евреев:
— Если говорить о бытовом уровне, то реликты антисемитизма еще долго будут существовать, постепенно угасая хотя бы из-за исчезновения (чисто демографического) евреев в России.
Представляется важным, что отношение респондентов к государственному антисемитизму в значительной мере рационально. Его существование и (возможное) возвращение в российскую действительность объясняются «политологически», мол, при помощи антисемитизма власть решает проблемы во взаимоотношениях с подданными. Этот тезис у всех одинаков. Однако в данном нарративе очевидным образом отсутствует объяснение: как может быть, что государственного антисемитизма нет. Респонденты говорили: «Путин почему-то не антисемит». Почему он не антисемит, хотя мог бы или даже должен был им быть — ответа нет. Впрочем, его и не ищут. Такой взгляд закономерным образом предполагает и прогноз:
— Не исключена вероятность смены власти, которая вновь приведет к поиску виноватых, и притча про евреев и велосипедистов вновь станет актуальной.
Что касается бытового антисемитизма, то в его отношении нет и попыток рационального объяснения. Хотя известно немало схем научного толкования феномена ксенофобии вообще и юдофобии в частности, в нашей весьма просвещенной аудитории о них не вспомнили. Антисемитизм принимается как данность, непременный атрибут народного сознания. Но, поскольку он проявляется в связи с наличием евреев, то оказывается атрибутом еврейства. («Антисемитизм без евреев» респонденты упоминали, но как исключение, подтверждающее правило). Представляется, что это защитный прием нынешнего секуляризованного еврейства, когда избранность еврейского народа подтверждается дискриминацией, исключительность — исключением, эксклюзией.
Добавим, что многие респонденты так или иначе заговаривали о Холокосте как объединяющем евреев символе. Холокост — это наивысшее проявление антисемитизма, государственного и «народного», он существует в памяти евреев, не имея объяснений и не нуждаясь в них. Действительно, память о Шоа вкупе с мыслью, что, несмотря на Катастрофу, еврейский народ выжил, служит той же функции подтверждения в современной секулярной среде особости своего народа, что и идея избранности — одно из важнейших средств поддержания социальной интеграции и воспроизводства субкультуры этнической общности.
Типичны и рассуждения о том, что антисемитизма нет, поскольку для него нет условий:
— Для антисемитизма нужны евреи, а их в России маловато. К тому же большинство евреев в России полностью русифицированы и не претендуют ни на какую особую идентичность.
Но далее отыскивается причина, по которой антисемитизм все-таки появится:
— Искусственно вызвать антисемитизм можно всегда, даже если евреи живут только в Америке или в Израиле. По сути, это будет уже не антисемитизм, а просто ненависть к чужому. Это возможно и через 10, и через 50 лет, если в трудную минуту не будет какого-нибудь более подходящего врага.
Отсутствие антисемитизма воспринимается неоднозначно. Приходилось слышать, что антисемитизм держит евреев в тонусе. Более серьезное с точки зрения последствий соображение состоит в том, что в отсутствие антисемитизма пропадает одна из главных составляющих еврейской идентичности, евреи начинают исчезать, коль скоро никто их не стигматизирует в качестве евреев.
Сегодняшнюю ситуацию многие респонденты описывают как угасание государственного антисемитизма при сохранении бытового. Бытовой же антисемитизм встречается в двух вариантах. Первый — враждебные/негативные установки, нападки со стороны русских в отношении евреев. Часть респондентов сами их испытывали или знают о подобных случаях. Второй — антисемитизм без евреев как особый феномен, предполагающий два подхода. Один — этический, когда антисемитизм признается злом, дурным проявлением человеческой души, которое при отсутствии евреев не исчезает, доказывая имманентность зла — зла вообще или присущего определенному народу, в данном случае русскому. Это прискорбное явление, с которым приходится мириться ввиду неистребимости зла. Другой подход можно назвать функциональным — его разделяют немногие наши респонденты. Подобный подход свидетельствует о функциональности антисемитизма для русского и, возможно, не только русского, этноса. Теоретическая проработка части этого вопроса выполнена Л. Гудковым, писавшим о функциональности образа врага[5], который на определенном этапе был необходим коллективам разного уровня, поскольку через образ врага они устанавливали свои границы и регулировали отношения внутри коллектива. Как отмечал Л. Гудков, образ еврея в сознании русских представляет собой проекцию порицаемых и отрицаемых в себе антропологических атрибутов, которые помечены в русском самосознании как чужие[6], а именно как принадлежащие евреям, жидовские. Это жадность, скупость, но также и (излишняя) расчетливость, рациональность вместо эмоциональности и т.п.
В процессах социализации, т.е. общения старших с младшими или межличностного общения людей с равным статусом, предосудительность таких проявлений маркируется их обозначением как еврейских, жидовских. Так же помечается и стремление, скажем, к какому-то совершенству, дающему преимущество одному человеку перед другими: «Ты что, самый умный? Ты еврей, что ли?»
При этом негативный образ еврея и еврейского мира функционирует во внутренней коммуникации в русском этносе, по большей части вне зоны реального контакта с евреями. Этот вариант антисемитизма не направлен против евреев: отношение к евреям в данном случае роли не играет. Некоторые респонденты отмечали, что поскольку их русские партнеры считают их евреями, они в их присутствии воздерживаются от использования таких приемов критики не только в их адрес, но и в адрес «своих». Более того, русские соседи часто заверяют их, что не видят в евреях носителей какого-то зла для себя. Но осуждать нечто еврейское, жидовское в своих взаимоотношениях с теми, кого они воспитывают или поучают, не перестают[7].
Так или иначе, в господствующем нарративе антисемитизм представляется просто злом, изначально присущим отдельным лицам, народу или государству. Его источник не ищут ввиду представлений о вековечности зла. И в этой связи перспективы еврейства в России представляются так: евреи будут здесь всегда и они навсегда останутся объектом антисемитизма. При таком подходе антисемитизм оказывается атрибутом существования евреев, поэтому нынешнюю ситуацию (практическое исчезновение антисемитизма) такие респонденты трактуют как ненормальную. Ведь если евреи потеряли свой антисемитизм, то это означает, что они перестали быть особым народом, исчезновение антисемитизма — знак исчезновения еврейства.
Атеизм и интернационализм
Большинство опрошенных считают себя атеистами (часть предпочитает называть себя агностиками). В отношениях между этносами для них характерен подход, в советское время обозначенный как интернационализм. Отчасти это объясняется тем, что первичная и вторичная социализация респондентов происходила в советское время, когда упомянутые установки были частью официально предписанной идеологии. Однако нам представляется, что респонденты восприняли эти доктрины не только как советские люди, но и — акцентированно — как евреи. В нескольких случаях они подчеркивали, что верны атеизму вопреки моде на религию, какую угодно, и убеждены в равенстве народов, отвергая идеи превосходства любой нации, в частности, еврейской.
Пребывая в рассеянии, еврейство, взаимодействуя с окружающей этнической средой, сохраняло обособленность, прежде всего, благодаря религии. (Этому помогала и эндогамия, опирающаяся на концепцию «кровной» исключительности евреев, а также особая сфера занятости, отвергаемая соседями-неевреями.) Такова была ниша, охраняющая и сохраняющая еврейство внутри чужой этносреды[8].
В более близкие нам времена евреи вышли из этой ниши, тогда же начала размываться компактность расселения и кровнородственная связь внутри группы. Отметим, что во все времена некоторые евреи крестились или принимали ислам. Иногда это приводило к полному растворению, с абсолютным отказом от своей особой идентичности, а иногда порождало маргинальность в отношении обеих групп — как «старой» еврейской, так и новой, принимающей. Имела место и практика добровольного обращения в другую веру. (В нашей выборке представлены евреи, принявшие православие). Добровольный уход в чужую религию был одной из попыток избежать упомянутых ранее стигматизации, эксклюзии и репрессий. Этот ход зачастую не приводил к искомому душевному комфорту, но поиск не прекращается до сих пор.
В еврейских кругах бытуют два мнения на этот счет. Первое — еврей, расставшийся со своей верой, т.е. ставший неверующим, не перестает быть евреем: «Перестать быть евреем нельзя. Вы хоть раз в жизни слышали «бывший еврей»? Здесь в очередной раз возникает сложность с определением еврейства, но распространено мнение, что «не быть иудеем, обрезанным — это еще не значит перестать быть евреем». Но вот и другой подход: принять другую веру с точки зрения верующих иудеев означает полностью утратить свои права на самоназвание евреем[9]. Среди нееврейского окружения есть несколько точек зрения, одна из них видит итогом этого процесса превращение еврея в индивида «как все» (с точки зрения «всех»). Другая — противоположная точка зрения (ее охотно разделяют и антисемиты) — еврейство не может быть вытравлено ничем. Более того, «выкресты — еще хуже», т.е. еврейские черты представлены в них резче.
Практика крещения демонстрирует, что от эксклюзии оно спасает не всегда. Поэтому требовались инструменты адаптации, одним из которых стал отказ от собственной религии с утверждением без-религиозности как идеала, предложенного всем остальным. Идея на почве атеизма объединиться с людьми, оставившими свои конфессии, и образовать новую общность атеистов, не была собственно еврейской. Но в случае ее торжества они были бы первыми ее бенефициарами.
Повторим, что среди респондентов абсолютное большинство относило себя к неверующим. Те же тенденции продемонстрировал и предыдущий опрос в не-элитных группах.
Итак, атеизм как доктрина и ценностная позиция, рассматривался евреями не как еврейская черта, а то, что было (еврейством) предложено миру вообще. И в каких-то формах этим миром принято. В частности, атеизм стал государственной доктриной Советского Союза и лишь недавно был отменен при внесении поправок в Конституцию. И этот атеизм стал инструментом приспособления евреев к диаспорному существованию.
Еще один вариант адаптации — это интернационализм. Как и в случае с атеизмом, автор не утверждает, что интернационализм — еврейское изобретение. Но он был адаптирован вышедшей из еврейских анклавов социальной волной; отказ этих евреев от национальной принадлежности был словно предложением, императивом для всех народов. Упразднение этнической квалификации стало частью социалистической / коммунистической доктрины, в конечном итоге и национальная государственность должна была уступить место единому обществу, где не будет разделения на народы, страны и расы. Тогда восторжествует тотальное объединение всех на основе антропологического признака: все они / мы суть люди. В современном варианте гражданской нации заложен именно этот принцип: народ — это граждане.
Интернационализм как установка в тех или иных стертых формах проявляется и в реакциях наших респондентов. Как антитеза сионизму и еврейскому национализму он выглядит приличествующей формой мировоззрения людей, считающих себя евреями. Опять-таки исключительность евреев проявляется и в этой готовности отказа от собственного еврейства в пользу более универсальных трактовок социальных проблем. Для себя они видят решение еврейского вопроса с этих универсалистских, в каком-то смысле интернационалистских позиций. Как описал это один из наших респондентов: «Я родился в еврейской семье интеллигентов первого поколения. Ценности российской культуры почитались в семье главными. Одновременно родители были глубоко привержены идеям интернационализма, и всякий отход от этих идей огорчал родителей до самой последней степени».
Еще один способ адаптации / ассимиляции, о котором уже приходилось говорить, — это отказ от собственной еврейскости, в чем бы она ни выражалась. Применительно к евреям России это описано как попытки некоторых еврейских деятелей социал-демократического толка растворить свой народ в культуре российского пролетариата. Что достигалось усвоением черт и практик пролетарской среды и отказом от всего, что обособляло еврейство. Эксперимент был признан неудачным, и впоследствии речь шла уже не о «орабочивании» евреев, а общем принципе воспитания детей, от которых требовали знать русский язык и культуру «лучше всех» (т.е. лучше русских). При этом максимально отказавшись от всего, что олицетворяло «старое» еврейство. В очередной раз подчеркнем: в этом смысле быть евреем — это в максимальной степени быть неевреем. И это почиталось за доблесть.
Ассимиляция
Респондентов спрашивали, при каком сценарии истории России усилится ассимиляция евреев, а что, напротив, обусловит восстановление еврейских традиций?
Часть респондентов приняла простую схему: судьба России — либо нарастающий авторитаризм, либо переход к демократии, а будущее российского еврейства — либо ассимиляция, либо «возвращение к традиции».
Эта схема предполагает, что в условиях демократии ассимиляция будет идти активнее, а при диктатуре укрепится тренд традиционализации.
— Может быть, это звучит парадоксально, но в условиях авторитаризма некоторая отдельная еврейская жизнь продолжится. А наступление реальной демократии приведет к росту ассимиляции.
— Ассимиляция, но медленная и неполная — при демократическом развитии, восстановление традиций — при авторитарном (параллельно с отъездом тех, для кого это непривлекательно).
— При сохранении курса государства на «православие, самодержавие, народность» тенденция усиления еврейской идентичности (это не совсем восстановление традиций, а скорее способ осознания себя евреем) будет продолжаться. Причем и как некоторая соглашательская позиция, и как протестная. Но и ассимиляция (если мы говорим о прекращении соблюдения заповедей) совершенно неизбежный фактор в современном мире.
Были предложены и разнообразные поправки к этой общей схеме.
— Я думаю, что оба процесса будут идти одновременно, как это и происходит сейчас. Вопрос только в численности первой и второй группы евреев, в какой пропорции они будут уменьшаться.
— Ассимиляция российских евреев является необратимой.
— Не вдаваясь в детали и аргументы, думаю, что как тенденция ассимиляция окажется сильнее.
— Возвращение к «традиции» никогда не перекроет процессов ассимиляции.
— В условиях благоприятного сценария может усиливаться ассимиляция, но всегда остается «ядро», склонное к сохранению традиций.
— Восстановление традиций возможно по пессимистичному сценарию развития России: в условиях возрастания угроз личной и групповой безопасности консолидация на этой почве вынуждена и неизбежна. При других сценариях будет доминировать ассимиляция.
— При модернизационном сценарии развития ассимиляция будет усиливаться, при консервативном — ослабевать. Но я имею в виду глубинную ассимиляцию.
— Модернизационный и либеральный сценарий тоже может сопровождаться показным возрождением еврейской — как и любой другой — особости, ношением кипы, посещением синагоги, вообще подчеркиванием своей значительности в силу принадлежности к группе «избранных».
Но, наряду с этим предлагались и более сложные схемы:
— «Катастрофический» сценарий, маловероятный на сегодняшний момент, неизбежно приведет не просто к ассимиляции, а к гибели и практически полному исходу евреев из России. «Благоприятный» сценарий, наподобие сегодняшнего в России, приведет и приводит не столько к восстановлению традиций, сколько к формированию специфических форм национального существования, которые могут опираться на традиции в различной форме, но могут носить и инновационный характер.
Часть ответов подразумевала отказ от противопоставления ассимиляции и возвращения к традиции:
— Мне кажется, что эта оппозиция постепенно пропадает — ассимиляция и восстановление традиций могут сосуществовать и сосуществуют, и это сосуществование характерно в контексте снижения роли этничности. Это все чаще вопрос культурного выбора.
Были указания на иные, нежели политические, причины динамики в еврейской среде:
— Ассимиляция будет усиливаться в силу высокой доли смешанных браков. Не вижу оснований для восстановления еврейских традиций. Из них первая — проблема языка. Все меньшее количество евреев владеет еврейским (и тем, и другим) языком. А еврейское религиозное образование неразрывно связано со знанием языка.
Часть ответов — отказы видеть данную проблему или предложенную оппозицию:
— Об ассимиляции в наше время говорить неактуально, поскольку выросло уже несколько поколений ассимилированных.
Вот развернутый ответ, снимающий введенное противопоставление:
— Применительно к российским условиям в качестве «точки отсчета» движения по направлению «к» или «от» еврейства, имеет смысл опираться на принцип самоидентификации. При подъеме антисемитизма все евреи, независимо от того, кем они себя ощущают, вынуждены будут играть роль чуждой и «опасной» национальной группы. В случае же сохранения благоприятной (не враждебной) среды у евреев будет большой выбор: ассимиляция, приобщение к иудаизму, и широкое поле промежуточных вариантов (соблюдение основных традиций на семейном уровне, интерес к еврейской истории и культуре, возможно, участие в жизни еврейских общин, если в России появятся какие-то современные варианты «иудаизма лайт»). При таком сценарии ситуация будет не одномерной — «ассимиляция или восстановление традиций», а более сложной.
Это мнение не единично:
— Ложная альтернатива. Подобно русским или полякам, евреи в современном мире колеблются между религиозной и светской идентичностью. Светская идентичность не означает ассимиляции. Русский не перестает быть русским, если не считает себя православным.
Кажется важным соображение о характере «новой религиозности» евреев:
— Массового обращения к религиозной жизни, традициям (как образу жизни) не будет ни при каких условиях. Современные российские евреи — жители больших городов, хорошо включенные в их жизнь. Традиционная религиозность с этим мало совместима. Рост национального самосознания (и, соответственно, ограниченный интерес к традиции) скорее всего, активизируется, если возрастет антисемитизм. Однако и в «мирных условиях» он тоже возможен в рамках общего тренда — растущего интереса к семейной истории и памяти.
Вот важная мысль о функциональной потребности общества в «еврейском» элементе:
— На мой взгляд, наличие мощной еврейской общины определяется не религиозностью или наличием светской еврейской культуры, а потребностью основного общества в существовании евреев, теми возможностями, которое это общество предоставляет евреям.
Наконец, было высказано мнение, которое следует рассмотреть в его развернутой форме:
— Думаю, противопоставление ассимиляции и обращения к традициям нуждается в большом уточнении с обеих сторон.
Российские евреи давно ассимилированы в том старом смысле, что они живут, за очень незначительными исключениями, не замкнутыми общинами, а обычной городской жизнью и вовсе не ограничены евреями в личном и профессиональном общении. Они не ассимилированы в том смысле, что «знают», что они — евреи, какими бы оговорками это ни обставлялось.
Понятие «традиционности» и даже религиозного «соблюдения» в еврействе весьма размыто — в диапазоне от принадлежности к внутреннему кругу хабадной общины со всеми вытекающими и до потребления мацы в Песах и приверженности отдельным блюдам ашкеназской кухни. Хотя синагоги играют роль общинных центров, ортодоксальная религиозность совсем невлиятельна, она не образует того полноценного слоя, способного поддерживать нормы традиции, как мы наблюдаем, несмотря ни на что, в русском православии, например. Так что для евреев в массовом исполнении еще в большей степени, чем для номинально православных или для «этнических православных», характерно обращение к традиции на уровне усвоения (в том числе искаженного) случайных элементов, даже не одних и тех же, так что невозможно сказать, что есть хоть какая-то доминирующая еврейская практика.
Так вот, в обозримой перспективе уровень ассимиляции вряд ли будет меняться. Почти все евреи будут помнить, что они евреи, и почти все будут беспроблемно вписаны в светское окружение. При этом некое общее поведение, позволяющее говорить, что «российские евреи делают так-то», не возникнет, хотя в городской жизни, позволяющей любые сочетания культурных ориентаций, большинство евреев будет что-то как-то использовать из традиционного арсенала.
Только какие-то катастрофические события, вызывающие всплеск антисемитизма, способны изменить этот сценарий, да и то наиболее чувствительная часть скорее эмигрирует, чем мобилизует свое еврейство здесь. К тому же, эмигрируют они скорее не от антисемитизма, а от самих катастрофических событий.
Как мы видим, большинство экспертов обусловили динамику ассимиляции и противоположных ей трендов состоянием внешней по отношению к еврейству среды, процессами в российском обществе в целом. При этом одни авторы полагали, что рост антисемитизма активизирует сторонников возвращения к еврейской традиции, другие, напротив, считали, что это подстегнет дальнейшую ассимиляцию и ослабит еврейскую идентичность. (Строго говоря, на практике возможно одновременное ускорение обоих процессов).
Встречались (немногочисленные) попытки отрицать сам факт ассимиляции:
— Стоны про ассимиляцию звучат сотни лет. Еврейский народ доказал свою сохранность — еврейский ум, еврейский характер, еврейский юмор никуда не денутся.
Но в основном все соглашались, что этот процесс продолжается. Вот как представили будущее своих детей наши респонденты, детерминируя его ситуацией в стране в целом.
— При демократическом варианте развития страны — ассимиляция, но очень медленная. Дело в том, что современная еврейская нетрадиционная идентичность, не связанная с религией и прочим, — это очень успешная идентичность. Следовательно, у людей нет оснований от нее отказываться. Более или менее массовое обращение к корням — только при ухудшении ситуации в стране.
— Если внешние обстоятельства не заставят потомков вынужденно «стать» евреями, то они, скорее всего, окажутся полностью или почти полностью ассимилированными.
— Многое будет зависеть от обстановки в России и возможности самореализации таких потомков. Мне кажется, что тяготение к еврейским корням будет превалировать, это в еврейском генотипе, травмированном геноцидом, — стремление к укреплению и защите.
— Отъезд из страны в случае продолжения того, что в России происходит политически. В массе своей — утрата представления о корнях. В небольшой части — нарочито активное возвращение к корням.
Стоит заметить, что респонденты не объясняют, почему благоприятная ситуация (демократия в России) будет стимулировать ассимиляцию, а неблагоприятная — «обращение к корням». Кажется, что могло бы быть и наоборот.
В нескольких случаях внутриеврейские процессы объясняли внутренними причинами:
— Старые будут доживать, среднее поколение — интегрироваться. А молодежь — уезжать.
— В условиях глобализации и социальных сетей вопросы идентичности уходят на второй план, так как людей занимают иные проблемы.
— Думаю, что в дальней перспективе евреи как национально-культурная общность сохранятся только в Израиле и, возможно, в США. В других странах их ждет ассимиляция в той или иной форме.
Респонденты уточняют вопрос об ассимиляции, указывая на особый характер идентичности евреев в России:
— Интересный вопрос, сохранится ли размытая общность людей, ощущающих одновременно свою включенность в русскую культуру и некую особость в рамках этой культуры. Пока этот культурный феномен поддерживается старым российским разделением на «славянофилов» (националистов, имперцев и т.п.) и «западников» (универсалистов). Но есть ощущение, что это разделение в ближайшие десятилетия потеряет актуальность. Для них не будет альтернативы еврей / нееврей. Основной тренд составит множественная идентичность. Причем в одних сферах (пищевая культура, например) может превалировать одна идентичность, в других (отношение к религиозным практикам и др.) — другая. Разумеется, часть уйдет в еврейство, часть его отвергнет. Но это не пути большинства.
— Незнание традиции, языка, не-хождение в синагогу и т.д. указывают не столько на ассимиляцию, сколько на аккультурацию, которая вполне уживается, как показывает пример советских евреев, с национальным самосознанием, особенно если ему кто-то угрожает. Аккультурированных евреев в последние два века всегда было большинство, что не привело к исчезновению общности в целом, но обусловило радикальные перемены формы этого самосознания (наиболее ярким примером чего является Израиль).
Особо подчеркнем вывод:
У таких евреев сила и степень еврейской идентичности зачастую ничуть не меньше (или менее достойна), чем у тех, кто ходит в синагогу. Просто она другая. Ничто не помешает их потомкам связывать себя в дальнейшем с еврейским народом, основываясь на отличных от религии и общинности типах идентичности.
(Обратим внимание на редкий в ответах взгляд на будущее евреев как иное будущее, принадлежащее иным парадигмам).
Следует обратить внимание, что процесс ассимиляции движется по исторической шкале не монотонно, а скачками. Установки, с которыми человек входит в общество, как правило, меняются на протяжении его жизни относительно мало. Гораздо сильнее будут отличаться установки его / ее потомства, следующего поколения. (Здесь и возникает пресловутая проблема «отцов и детей»). Поэтому у зрелых и пожилых евреев и у евреев молодых представления о будущем с неизбежностью различаются. В чем эти различия, наше исследование полноценного ответа дать не может ввиду того, что молодежь была очень слабо представлена в выборке.
Отъезд
В контексте проблемы ассимиляции неизбежно вставал вопрос об отъезде евреев из России. В частности, обсуждался весьма интересный феномен жизни на два дома, предполагающий тесную связь с Израилем при сохранении подобной связи с Россией. О перспективах этого тренда были высказаны такие мнения.
— Мне кажется вполне нормальным, что человек выбирает, где ему жить, где работать и т.д. Переезд с места на место в поисках учебы, карьеры, любви, оптимального климата для твоего здоровья и т.д. Правильной мне кажется жизнь даже не на два дома, а на три, четыре и больше.
Общее отношение респондентов — позитивное. Ожидания, как и в прочих случаях, связываются с обстановкой в России.
— Мои ожидания (пожелания) — чтобы этому процессу никто не мешал. Два дома лучше, чем один.
— Это опять связано с тем, какой будет Россия. При демократическом варианте развития жизнь на два дома — вполне вариант. Или даже возвращение[10].
— Думаю, что ничего принципиально не изменится, если, конечно, Россия не закроет границы железным занавесом. Жить на два дома — вполне очевидный глобальный тренд, который будет только укрепляться.
— Это будет зависеть от политических процессов в России, потому что для многих второе — израильское — гражданство — это страховка от неприятностей здесь, в Российской Федерации. И неприятностей именно политических. В целом жизнь на два дома может стать нормой.
Более осторожные прогнозы принимают во внимание, что связи с Россией у живущих на два дома постепенно будут ослабевать:
— Если не изменится общая обстановка, то сохранится и жизнь на два дома, в этом есть своя прелесть. Но все-таки по мере вымирания советских евреев, которые здесь родились и выросли, привлекательность России как второго дома будет ослабевать.
Вариант закрытия границ никто не исключал, но большинство сочли его маловероятным. Евреев же он, считают респонденты, коснется менее, чем остальных жителей РФ.
— Думаю, это не очень вероятно. Но если это случится, евреи будут пытаться уехать, как это было в СССР.
— Небольшой риск этого есть. Но думаю, что из России евреи в любом случае смогут эмигрировать на ПМЖ в Израиль, хотя бы по модели, которая сложилась в СССР в 70-е годы прошлого века.
Обсуждался вопрос о том, надо ли кому-нибудь уезжать из России прямо сейчас.
— Лучше уезжать прямо сейчас всем молодым людям вне зависимости от национальности.
— Молодым, образованным и амбициозным лучше уезжать. Возможно, надо уезжать и совсем пожилым людям, чтобы получать услуги качественного здравоохранения.
Существенно, что алармистских настроений касательно ситуации с еврейством исследование не выявило.
— Политически преследуемым имеет смысл уезжать. Но речь же не обязательно о евреях. Прямой угрозы для евреев не больше, чем для российской интеллигенции в целом.
— Нет специальных «еврейских» причин для срочного отъезда. Тому, кто хочет жить в государстве с более качественным управлением, демократией, перспективами развития и готов к эмиграции, стоит не медлить и уезжать из России.
Как видят судьбы Израиля
Далее обсуждался вопрос о судьбах Израиля — как государства, с которым себя, так или иначе, связывает российское еврейство.
Перспективы отношений между РФ и Израилем вызывают у респондентов беспокойство:
— Российская политика после 2014 года идет по пути ухудшения отношений со все большим числом стран. Израиль по понятным военно-политическим причинам очень стремится сохранить отношения, но не факт, что это получится.
— Отношения с Россией будут зависеть от России.
Некоторые респонденты отмечают проблемность ситуации в Израиле:
— Израиль очень сильно меняется, там все труднее сочетается современное высокоразвитое государство, с одной стороны, и фронтовая ментальность — с другой.
Другие уверены, что положение там стабильно, но отношения с Россией могут измениться:
— В ближайшие пять-десять лет положение Израиля вряд ли будет хуже, чем сейчас. Арабы разобщены, часть из них готова сотрудничать с Израилем, есть мощная поддержка США, собственная экономика держится на неплохом уровне. Что касается отношений с Россией, то нынешнее в целом неплохое их состояние может резко меняться в зависимости от того, как Россия будет вести себя в ближневосточных делах (поддержка террористических организаций, поставка современного оружия недружественным к Израилю режимам и т.п.).
— Не уверен, что Россия сохранит нынешние сбалансированные отношения одновременно с Израилем и ведущими мусульманскими странами в регионе. Более вероятным представляется возврат к партнерским отношениям преимущественно с мусульманскими странами (такими, как Иран).
Было интересно встретить мнение о том, что Израиль для россиян недостаточно «западная» страна:
— Думаю, что все пики эмиграции в Израиль прошли. Для многих российских евреев Израиль — это слишком «восток». Эмиграция в Европу и за океан пока выглядит более предпочтительной. Но это, если проявления антисемитизма в Европе не будут возрастать.
А вот ответ на главный (в рамках проблематики отъезда) вопрос:
— Сохранится ли Израиль как «страна-убежище»? Конечно, даже в худшие годы интифады личная безопасность среднего еврея в Израиле была несравненно выше, чем среднего гражданина России у себя в стране, но не факт, что так останется и в дальнейшем. То есть за десять лет, пожалуй, можно почти поручиться, а вот за пятьдесят и даже тридцать — невозможно.
Роль евреев в нынешней России. Избранный народ
Респондентам был задан вопрос о роли евреев в нынешней России, задевший весьма чувствительную тему.
Были простые ответы о значительности этой роли:
— По-прежнему роль достаточно велика, что обусловлено как образованностью, урбанизацией и т.д., так и специфическими признаками еврейской идентичности, сложившимися на протяжении веков существования в диаспоре.
— Как это ни парадоксально звучит, евреи в нынешней России помогают в первую очередь русским сохранять, а возможно, даже укреплять свою культурную и национальную идентичность.
— И в СССР, и в России евреи более энергичны и инициативны, поэтому они занимают лидирующие позиции на ключевых направлениях. Тогда это были органы управления (система номенклатуры), «флагманы индустрии» и карательные органы, позже — наука. Сейчас в основном бизнес.
— В культурной жизни России и СССР роль евреев всегда была велика и остается таковой. В политической сфере она и сейчас велика, хотя менее значима, чем в предвоенные годы, но более — по сравнению с послевоенным периодом. В экономической области эта роль сегодня более значима, чем в СССР. Заметна она и в общественной жизни России.
— Большую роль сыграли в строительстве олигархического капитализма. Однако сейчас никакой специальной роли уже не играют.
Респонденты неоднократно указывали на то, что теперь эта роль менее значительна, чем в советское время:
— Роль стала более заметной, чем в позднее советское время, но она ниже, чем в ранний советский период.
Особняком стоит мнение, что в действиях евреев, обладавших значительным влиянием, не было ничего еврейского. В этих ответах видно движение от мифологии еврейства к его социологии:
— Я думаю, и рассуждения о «роли евреев в СССР» часто притянуты за уши. Большинство евреев, с 1930-х годов по крайней мере, а многие и ранее, действовали не как евреи, а как чекисты, аппаратчики, советские ученые и т.д.; собственно еврейского в их мотивации почти или совсем не было.
— Евреи как организованная группа никакой роли не играют. Отдельные евреи — да. Их совокупное влияние связано с относительно высоким статусом в науке, бизнесе и т.д.
— Мне кажется, в СССР не было «роли евреев». Не надо путать роль людей еврейского происхождения — Ягоды и Харитона, например, или Дымшица и Ойстраха — с ролью евреев как группы. Говоря о роли евреев как группы, надо честно и корректно сказать, что такой роли не было вообще. Иначе мы скатимся в антисемитский подсчет евреев в ЧК и ЦК; следующий шаг: евреи свергли царя и устроили Гражданскую войну, Голодомор и Большой террор. А это ложь. Потому что «евреи» — это не организация, не партия, не боевой отряд. А антисемиты именно на этом и играют, на том, что евреи — это именно нечто вроде партии.
— Роль лиц еврейского происхождения вряд ли стоит рассматривать в отрыве от их прочих коллег в науке, искусстве и т.д.
Продолжением этой мысли является утверждение, что, если евреи и образуют общность, она «работает на себя», а не на российское общество в целом. Но иногда и в этом видится польза для российского общества:
— Рост еврейской религиозности — это позитивный момент в смысле строительства мультиконфессионального общества.
Считают ли современные российские нерелигиозные евреи себя «избранным народом»? Наиболее интересным показался ответ:
— Многие нерелигиозные евреи считают себя особенными, но не могут сформулировать, в чем состоит их особенность.
Респондент сам также не смог это сформулировать, но отрефлектировал данное обстоятельство. Это неумение сформулировать, в чем состоит главный, конститутивный признак современного российского еврейства, имеет важные последствия для процесса культурной ассимиляции.
— Еврейская идентичность строится, как это ни парадоксально, на традициях антисемитизма. Российский еврей, если даже захочет перестать им быть, ему это в той или иной форме не позволят. Для меня еврейская идентичность связана с историей моей семьи, с рассказами бабушек о погромах и родителей о Холокосте.
Имеется объяснение другого рода, но и оно упирает на внешние факторы.
— Кажется, в значительной степени держит сама установка общества на то, что люди должны быть приписаны к какому-то этносу. А просто отказаться себя приписывать еще очень трудно.
Так или иначе, в нынешних условиях принадлежать или не принадлежать к еврейству — дело личного выбора:
— Евреи обречены думать о своем еврействе и либо выбирать, либо отвергать его. Более всего это касается людей, у которых есть и «другая кровь».
— Общность судьбы (большая историческая память, Холокост, «по еврейской крови — не той, что течет в жилах, а той, что течет из жил» (Ю. Тувим), причастность к культурной традиции российского еврейства (Мандельштам, Пастернак, Бродский и др.), общность психотипа, культурных привычек (ментальность), семейная память.
— На памяти — семейной в первую очередь. На знании истории, общей культуры. На сложившихся практиках восприятия и взаимодействия с себе подобными, которые часто оказываются евреями.
Напрямую об «избранности» как критерии принадлежности к еврейству было сказано всего однажды:
— Сегодня еврейская идентичность держится на семейной традиции и неизбывном ощущении своей «избранности» (или, если хотите, «особенности»), хотя она давно уже не трактуется так, как это трактовалось Торой.
Мнение о том, что принадлежность к еврейству определяется детально разработанными критериями (Галахой) оказалось в меньшинстве.
— [Идентичность держится] в первую очередь на генеалогии — если есть какие-нибудь предки, которые считали себя евреями, то, значит, и мы евреи. Но этого недостаточно. Тем более что чистых евреев, т.е. тех, у которых только еврейские предки, становится все меньше и меньше. Нужно что-то еще.
Один из респондентов перевел вопрос об идентичности в исследовательскую проблему:
— Условный «рынок» идентичности предлагает разнообразные модели, которые хорошо бы изучить, осмыслить и понять, как трансформируется сегодня в бывшем СССР советская светская идентификационная модель. Исследования эти пока не проводились.
Заключение. Какого будущего ждет российское еврейство?
Итак, вернемся к двум вопросам, заданным в начале статьи: сохранится ли еврейство в России или исчезнет? И, если сохранится, насколько благополучным будет его существование?
Исследование дало несколько ответов на оба вопроса.
Во-первых, на прямой вопрос о будущем абсолютное большинство опрошенных, как мы уже сообщили, отказывались отвечать. Причем зачастую отказ давался в резкой форме. Поведение наших респондентов не отличалось от реакций, обнаруженных в ходе других недавних исследований по России в целом. Эта эмфаза, акцентирование тезиса о том, что «мы не можем знать, что с нами будет» — иносказательная критика в адрес власти, создавшей ситуацию, при которой никакой «уверенности в завтрашнем дне» быть не может.
Второй ответ, обозначенный не прямо, а в контексте, тоже совпадал с реакцией, типичной для современных россиян: пока во главе страны стоит В. Путин, ничего меняться не будет. «Еврейская специфика» этого ответа состоит в том, что и роста (государственного) антисемитизма ожидать не следует. Что будет после ухода Путина, наши респонденты, как и вообще россияне, говорить демонстративно отказывались.
Из высказываний участников можно извлечь и ответ на вопрос, не исчезнет ли еврейство в России. Примечательно, что точку зрения о том, что демографические причины (прежде всего старение и эмиграция) приведут к исчезновению еврейского населения в РФ, респонденты практически не упоминали. Многие, напротив, исходят из не проговариваемого убеждения, что еврейство в России так или иначе будет существовать всегда. (Здесь есть нечто от идеи неуничтожимости еврейства, каким бы испытаниям оно ни подвергалось.) Это иррациональное убеждение иногда подкрепляется рациональными аргументами о том, что еврейство России будет пополняться людьми, ранее не считавших себя евреями, но обнаружившими у себя «еврейскую кровь» и «еврейские корни». Сколько таких людей, сказать невозможно, поэтому подобный резерв кажется неисчерпаемым.
Рядом с этим рассуждением стоит и не лишенное социологического смысла соображение о том, что еврейство в России — не пришедший извне элемент, а, напротив, рождено самим российским обществом как необходимый ему компонент и потому будет существовать, пока существует сама Россия.
Обобщая наиболее распространенные мнения, можно констатировать: они опираются на тезис о том, что судьба евреев в России будет зависеть от вектора политических процессов в стране. Наши респонденты, как и большинство россиян, готовы строить предположения на ближайшее десятилетие[11] и отказываются прогнозировать судьбы России в более отдаленном будущем. В отношении же ближайшего десятилетия прогнозы варьируют от версии «будет так же, как сейчас» до предположений о некотором или сильном ужесточении авторитаризма. Демократическая перспектива прогнозируется только немногочисленными молодыми респондентами.
При «закручивании гаек» следует в первую очередь ожидать активизации эмиграции евреев в Израиль и другие страны. Если будут закрыты границы, ожидается, что евреи поведут себя как в 1970-е, т.е. будут бороться за право выезда и, скорее всего, его добьются.
Ухудшение политической или экономической ситуации в целом, как ожидают, может спровоцировать рост антисемитизма. Считается весьма вероятным, что правитель, который сменит Путина, не будет удерживать власти разного уровня от антисемитской политики или прямо спровоцирует юдофобскую кампанию. Так или иначе, всплески антисемитизма в ближайшие 10-15 лет ожидают многие из опрошенных. Правда, чаще говорят именно о всплесках, а не устойчивом высоком уровне ксенофобии.
Изложенные прогнозы и ожидания тривиальны. Наши предыдущие исследования, проведенные в среде провинциального, отнюдь не элитарного еврейства, давали такие же результаты[12]. Это позволяет считать, что существует общая для российского еврейства платформа или плоскость идентификации[13].
Оригинальность результатов данного исследования в другом. Во-первых, это идея о том, что еврейство в России вызвано к жизни потребностями этого общества и существует как функциональная часть российского социума. Из этого делается вывод, что перспективы еврейства определяются не внутренними процессами и не мерой враждебности / толерантности русского окружения, а структурно-функциональными факторами внутри российского общества.
Отдавая должное этой идее, отметим, что в уже упоминавшихся работах Л. Гудкова и автора этой статьи высказывались соображения, что еврейство в России как модернизирующейся стране выполняет функции переносчика и интродуктора интеллектуальных и художественных продуктов западной цивилизации. Как будто отвечая этой мысли, ряд респондентов подчеркнули, что такая функция евреев проявляется все слабее, в частности, в науке.
Другая идея относительно будущности российского еврейства, представленная лишь в нескольких интервью, заключается в том, что в скором времени уйдет тип еврейства, сформировавшийся в советское время. Сейчас этот тип кажется доминантным и, поскольку трудно вообразить какой-либо другой, то его уход воспринимается как исчезновение еврейства как такового.
По разрозненным наблюдениям наших респондентов можно предположить, что этот новый тип (или типы) будет иначе проявлять свою лояльность России. Один из примеров этого тренда дает возникшая недавно практика жизни на два дома. Один дом — Россия, другой — Израиль или иная страна. Часть респондентов полагает, что за этой практикой большое будущее, другие считают, что она через некоторое время угаснет.
Механизм двойного гражданства как маркер готовности покинуть РФ также исподволь рождает новый тип. Лояльность России оказывается не безусловной, как этого требовали этические нормы, принимаемые на себя советским еврейством, а кондициональной. Если какие-то политические, экономические и иные условия не выполняются, то лица, имеющие два дома или два паспорта, от одного из них — российского — отказываются (на время или навсегда).
Так или иначе, история России с конца XIX в. доказывает: евреи на разных этапах отказывались от лояльности России и покидали ее, если условия пребывания в стране оказывались нетерпимыми. Наши респонденты вспоминают только об эмиграции 1970-х, не связывая ее с проблемой лояльности СССР. Дело, видимо, в том, что современное еврейство в значительной степени состоит из лиц (или их детей), кто от этой лояльности по тем или иным причинам не отказывался.
Однако нормализовавшиеся отношения с Израилем, позволяющие многим евреям поддерживать связь с родственниками и знакомыми в этой стране, как и новые каналы коммуникации с внешним миром, увеличивают вероятность появления на месте «советских» и «постсоветских» евреев людей с новыми формами идентичности и новым типом отношений со страной пребывания. Возможно, за этим новым еврейством — будущее[14].
Вопрос о будущем еврейства решается, точнее, не решается респондентами в нескольких форматах.
Первый из них состоит в отказе от рассмотрения вопроса. В этом данная группа совпадает с массовым сознанием российского населения в целом. «Аборт будущего» (метафора Л. Гудкова) как феномен современного массового сознания россиян подробно описан в работах «Левада-Центра». Евреи различного статуса, с которыми этот вопрос обсуждался в ходе нескольких исследований, транслируют те же установки, демонстрируя принадлежность к доминантному нарративу.
Названный выше отказ от обсуждения будущего — это, так сказать, объективное и не рефлексируемое совпадение еврейского нарратива с общероссийским. Другой формат — это осознаваемая идентичность истории российских евреев с общероссийской историей. В вопросе о будущем такой подход реализуется в двух позициях. Первая: мы ничего не можем знать о будущем еврейства, поскольку не можем знать будущее России. К этой позиции близка другая: будущего у России нет, в том смысле, что неопределенно долго будет тянуться настоящее, и это же касается еврейства как неотъемлемой части российского общества.
Идея продления настоящего в будущее (или замены будущего настоящим) остро актуальна, поскольку под «настоящим» в данном случае имеется в виду правление Путина и ожидание, что его пребывание на посту президента продлится неопределенно долго.
Призывать на свою голову антисемитизм ради спасения евреев от растворения в русском социуме никто из респондентов не решался, но вплотную к этому подводили рассуждения многих.
Изучаемый в данном исследовании вариант российского массового сознания — сознание так называемой думающей части общества. Если даже эти люди не только не имеют ответов на вопросы о будущем, но и не ставят подобных вопросов, ситуация весьма неблагоприятна для перспектив общественного развития. Но надо сделать оговорку.
Наша выборка, как уже отмечалось, в целом характерна для среды столичного высоко-статусного еврейства. Однако в силу примененного метода набора «снежный ком» она не включает, по меньшей мере, два важных социальных типа. Первый — элитная категория евреев, подвизающихся на прямом идеологическом обслуживании власти, прежде всего, в масс-медиа. Второй — еврейская молодежь.
Относительно «компрадорской» фракции можно предположить, что если у нее и есть отличия в воззрениях на будущее, то лишь в части их окраски, объявления «путинского будущего» особым благом для России. Возможны пророчества войн, навязанных России ее врагами, но приносящих им же поражение. Принципиально иного представления о времени «после нас» ожидать не приходится.
Взгляды же молодежи нам известны плохо. Но то, что мы знаем из прямых и косвенных свидетельств, позволяет говорить о принципиальных отличиях их представлений от описанных воззрений высоко-статусной и великовозрастной публики. Эти молодые люди выросли в обстановке не просто отсутствия антисемитизма, но, напротив, некоторого поощрения еврейства. Израиль стал не только дружественной страной, но и источником позитивных сигналов в повседневности — хороший отдых, хорошее лечение, хорошие товары и продукты, а также хорошая армия, хорошее вооружение. Та или иная связь с Израилем — неплохой вклад в социальный капитал[15].
Остаточная маргинальность, о которой говорилось ранее, проявила себя и в молодежной среде. Она помогает молодому человеку выделиться, присвоить символические значения, записанные за еврейством в современной российской культуре, оборачивая былую стигму знаком отличия, преимуществом:
— На вопрос о моей национальности мне приятно сказать, что я — еврей.
— Еврей — это сейчас модно.
Мы многократно фиксировали и среди провинциальных, и среди столичных евреев рассказы о том, как люди в том или ином смысле возвращаются к еврейству. Имелись в виду разные формы, от сугубо светских до углубленных в религиозной традиции, от поверхностно-игровых до эмоционально-проникновенных, связанных с перестройкой идентичности. Среди «старших» евреев возвращение как модный тренд не всегда одобрялось:
— «Возвратное» или вторичное еврейство (по крайней мере, на данный момент) отличается а) верхушечным характером, для «корней травы» пока еще не слишком типично; б) имеет несколько игровой характер, нечто вроде моды «теперь так носят»; в) связано как раз с протестом против универсальности и безликости городского быта, и потому имеет не столько массовый, сколько личностный характер; г) идет не столько от сердца и семейной традиции (врожденная «примордиальная идентичность»), сколько от ума и осознанной необходимости поместить себя в какую-то социальную ячейку — чтобы бесследно не раствориться в Лете («не пропасть поодиночке»). То есть идентичность «конструктивистская» более рациональна.
Мы полагаем, что эти явления следует считать частью процесса формирования нового еврейского типа или типов.
Другие респонденты относятся к такой идее с сомнением:
— Что касается конструирования новых евреев и «еврейской жизни», то это при любом сценарии останется уделом меньшинства, просто при развитии демократических тенденций меньшинство могло бы быть больше.
Принципиальная возможность такой социальной трансформации доказана ярче всего превращением в исторически кратчайшие сроки европейских (и не только) евреев в израильтян. Но и история российского еврейства показала, что смена поколений евреев в ХХ и XХI вв. совпадает со сменой социальных / человеческих типов.
Социальная динамика в меньшинствах и маргинальных средах может отличаться от таковой в среде большинства. Похоже, еврейская молодежь по ряду «собственно еврейских» параметров серьезнее отличается от родителей и дедов, чем русская, но они совпадают по многим иным линиям.
Наши респонденты как лица «отцовско-дедовского» поколения настаивают на критически важной для формирования еврейской идентичности роли антисемитизма и его самого страшного проявления — Холокоста. Они часто вспоминали «борьбу с космополитизмом» в конце сталинской эпохи, реже — погромы конца XIX — начала ХХ в.
К этим известным слагаемым русской еврейской травмы нужно добавить многосложную память об эмиграции. В отличие от иных событий в жизни российских евреев история их борьбы с таким мощным противником, как Советское государство, увенчалась победой. Но герои и победители уехали. Респондентам нашего исследования осталось завоеванное многократно более простое право на выезд и возвращение, а также вера в силы остающегося еврейства. В ходе исследования был задан вопрос о вероятности закрытия выезда для евреев (в Израиль или вообще из РФ). Большинство отвечали с оптимизмом. Чаще всего отрицали саму вероятность закрытия границ:
— Они [власти] на это не пойдут, им это не нужно.
— Закрывают границы тоталитарные режимы, а для авторитарных это не характерно.
А вот что говорили по поводу закрытия границ именно для евреев:
— Евреев никто удерживать насильно не будет.
Те, кто все же допускал вероятность закрытия, чаще выражали уверенность, что «евреи будут бороться, как в 1970-е, и добьются». Еще интереснее, что даже допускавшие возможность закрытия страны и не верившие в возможность евреев добиться выезда, говорили с оптимистической интонацией: «Что же, будут жить, как все время здесь жили».
Что касается молодых людей, для них открытые границы — «нормальное положение шлагбаума». Они допускают их закрытие в связи с чрезвычайными обстоятельствами, такими как пандемия. Но это именно чрезвычайные, т.е. временные меры. В остальном они допускают закрытие как теоретическую возможность, но такой же для них является мировая война и гибель мира в термоядерной катастрофе. В своих жизненных планах они из таковой не исходят.
Наши «взрослые» респонденты ставят вопрос: «Сохранится ли размытая общность людей, ощущающих одновременно свою включенность в русскую культуру и определенную особость в рамках этой культуры?.. Есть ощущение, что это разделение в самые ближайшие десятилетия может перестать быть актуальным».
Молодые же евреи — это люди, выросшие с идентичностью преимущественно или собственно еврейской. Для них Россия — страна временного пребывания, в определенный момент (скорее всего после окончания школы или вуза) они переместятся в другую страну, возможно, в Израиль. Это новый тип евреев, таких русская земля ранее не рождала. Их отъезд, видимо, не будет носить идеологический характер, он будет сам собой разумеющимся, как переход из класса в класс, из школы в вуз. В русскую культуру они будут включены по факту рождения сильнее, чем в любую другую, она будет для них частью мировой, проводником в нее. Но обязательств перед Россией они чувствовать не будут. Переезд из России для них станет техническим актом, не эмиграцией в смысле 1970-х.
Будет также воспроизводиться, но в сужающемся масштабе, еврейство сегодняшнего дня, с его нынешней мерой лояльности России, признания ее Родиной и проч.
Наиболее интересным кажется еще один вид, условно говоря, нового еврейства. Именно в этой категории, как мы предполагаем, в новых комбинациях встречаются черты, отличающие ее евреев от предыдущих эпох. Для этих молодых людей еврейский опыт не является по преимуществу опытом травмы. Виктимность, которая, по мнению одного из респондентов старшего поколения, присуща российскому еврейству, отсутствует в их мировосприятии.
Трудовая этика этих молодых людей включает понимание того, что надо знать свое дело хорошо и выполнять его соответственно. Но эти установки не строятся, как раньше, на мотивации «потому что ты еврей», мол, своей перфектностью необходимо компенсировать дискриминацию. У этих людей нет ни чувства вины перед другими, ни чувства превосходства. Их отношение к России характеризуется не словом «любовь», а словом «ответственность». Что особо важно, такие молодые люди, предполагая перспективу жизни на два дома, считают, что при этом человек несет ответственность за обе страны. При этой «двойной лояльности чувствуешь себя в ответе сразу за два народа и культуры».
— При развитии глобализации будет больше людей, живущих на два дома. [Поскольку] эти люди считают важным жить не только для себя, но и для Отечества, такие люди обогащают обе свои родины…
Участвовавшие в исследовании молодые люди не исключают, что в перспективе политическая ситуация в России может ухудшиться. Но они не прогнозируют роста антисемитских настроений, как это делают «взрослые» евреи. Их прогнозы имеют в виду совсем другие процессы, например рост потребления. Вот емкий двухвариантный прогноз:
— Два сценария — пессимистический и оптимистический. Пессимистический — закрытие страны, цифровой контроль, при этом, возможно, процветание общества потребления. Оптимистический — либерализация на основе того же общества потребления.
Их оптимизм объясняется взрослением в условиях, кардинально отличающихся от условий социализации старших поколений. Они аргументируют свой прогноз вполне рациональными доводами социологического порядка:
— Я с интересом и удовольствием смотрю на моих учеников, тех, кому будет принадлежать время через тридцать и пятьдесят лет. Среди них многие собираются уехать, но и среди тех, кто останутся, больше интересных, умных, драйвовых, чем в моем поколении. Смотрю с оптимизмом.
Очевидным методологическим выводом из проведенного исследования будет формулирование новой задачи: изучить установки и практики еврейской молодежи в России. Это значительно углубит наши представления о будущем российского еврейства.
1 | Исключением будет слово «славянство», помечаемое в словарях как устаревшее. Если считать казаков этносом, то вторым исключением будет «казачество».
2 | См. об этом: Слезкин Ю., Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М.: АСТ, Corpus, 2019, 512 с.
3 | Сама идея успешности маргиналов нисколько не оригинальна. Похожие феномены возникают при проникновении в общеевропейскую культуру выходцев из культуры китайской. Возникают ли они при обратном сочетании, нам неизвестно.
4 | См. Гудков Л., Дубин Б., Невозможность истории. Vittorio. М.: Три квадрата, 2005
5 | Гудков Л., «Идеологема врага: «враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции». Образ врага. М.: ОГИ, 2005, с. 7-80
6 | Гудков Л., «Этнические фобии в структуре национальной идентификации». Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1996. № 5, с. 22-27 = Ethnic Phobias in the Structure of National Identification // Sociological research. Armonk, N.Y., 1997. July-August Vol. 36. No. 4, p. 60-74; Гудков Л., «Антисемитизм в постсоветской России», Нетерпимость в России: старые и новые фобии. М.: Московский центр Карнеги, 1999, с. 44-98
7 | Подобная ситуация может складываться и в отношении других этнических групп. Как персонажи народного театра наций, они существуют, обслуживая внутренние коммуникативные, социализационные процессы в русском и других этносах чаще всего без присутствия носителей, вмененных им национальных, этнических черт.
8 | См. Слезкин, цит. соч. Эра Меркурия.
9 | Впрочем, есть авторитетное мнение, что «еврей, перешедший в иную религию, всегда остается евреем». См. Раввин А. Борода (ФЕОР). «Раввин: крещеного еврея мы все равно считаем иудеем», РИА «Новости», 19.11.2015 https://ria.ru/20151119/1324198458.html (дата обращения: 13.10.2020)
10 | Л. Борусяк изучила и описала практику возвращения в Россию молодежи, завершившей образование в США и Европе и имевшей опыт работы там. В составе выборки ее исследования была высока доля евреев (в том широком смысле, который относится и к выборке нашего исследования). См.: Борусяк Л., «Молодые интеллектуалы: почему они уезжают, а потом решают вернуться?», Вестник общественного мнения. 2020. № 1-2 (130), с. 191-205
11 | В этом смысле все российское общественное мнение и мнение евреев как его части можно считать находящимся в характерной для тоталитарных ситуаций зависимости от власти / властителя как символически репрезентирующего все общество и обеспечивающего его сплоченность, вне которой оно не может существовать.
12 | См., например: [Гудков Л., Левинсон А.] Восприятие антисемитизма глазами еврейского населения России. Исследовательский отчет. М.: «Левада-Центр» и Российский еврейский конгресс, 2018, сс. 3-16 https://archive.jpr.org.uk/object-803
13 | Ее описание и изучение представляет известный этнологический интерес. Нам приходилось подступаться к ее изучению (Восприятие антисемитизма, сс. 58-71) Сугубо прикладной характер задач, для решения которых это было нужно, не позволил провести это изучение в должных масштабах. Продолжить данное исследование кажется весьма важным.
14 | Подробнее о новых моделях идентичности евреев бывшего СССР см. статью Ханина и Бен Яакова в этом сборнике.
15 | Данная гипотеза нашла свое подтверждение в ряде исследований последних лет. См. например: Ханин В., Писаревская Д. и Эпштейн А. Еврейская молодежь в постсоветских странах. Рамат-Ган и Москва: Институт востоковедения РАН и Центр Еврейского образования в диаспоре им. Дж. Лукштейна Университета Бар-Илан, 2013